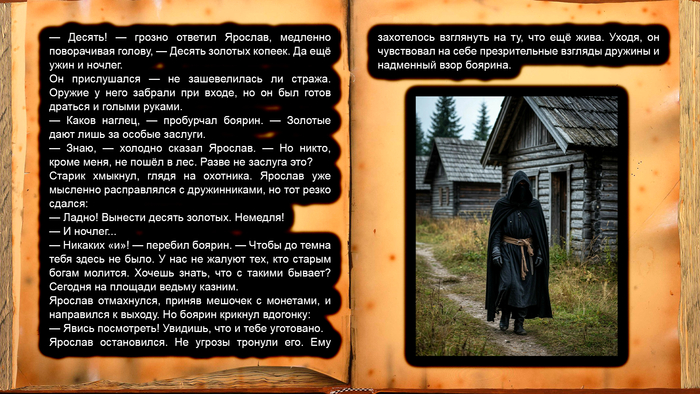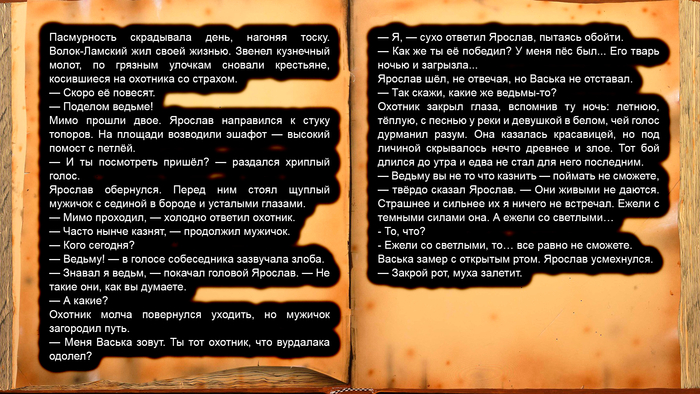— Свет, может, передумаешь? — Аня с тревогой смотрела на подругу.
— Чего ты боишься? Ну, не валенки же кидать? Толку-то от них. Да и нет у меня валенок… Светка уверенно шла к старой, покосившейся бане. Аня еле поспевала за ней. Под ногами хрустел, поблескивая в лунном свете, снег.
— Можно еще на воске погадать. А то про баню всякое говорят…
— И что говорят? Что банник там, который мне сейчас все и расскажет.
— Так не только банник, — Аня уже запыхалась догонять высокую и спортивную подругу. — У него жена еще есть, обдериха.
— Кто? — Светка усмехнулась.
— Обдериха, банная хозяйка. Я читала, что раньше верили: как первая женщина в новой бане родит, так от крови, которая через пол стекает, обдериха и заводится. Но Свет, может, ну его, гадание это. Не любят они, когда беспокоят…
Светка остановилась перед поломанным забором.
— Не любят, говоришь? Вот сейчас и посмотрим на обдериху твою. Хочу знать, за кого замуж выйду, раз Никита соизволил свинтить в свою Москву, — девушка обошла старую, почерневшую от времени баню и остановилась у двери, запертой только на ржавую задвижку.
— Что делать-то? — она потянула задвижку, она со скрипом поддалась.
— Надо оголиться и встать в проеме так, чтобы банник потрогал, — произнесла Аня почти шепотом.
— Оголиться? В смысле, шубу снять? — Светка непонимающе хлопала глазами.
— В смысле голой «пятой точкой» туда, чтобы она в бане оказалась, — Аня смутилась от такого своего объяснения.
— А не жирно ему будет, «пятую точку» мою лапать? — девушка рывком открыла дверь в баню.
Из темноты пахнуло застарелой гнилью, сухими вениками и горелыми дровами.
Светка сняла норковый полушубок и сунула подруге.
— Достаточно ему будет и спины, — она задрала водолазку на пояснице и встала спиной в проем, придерживая дверь рукой. — Долго ждать?
— Может, и не будет ничего. Тогда не выйдешь замуж в этом году, — Аня, переминалась с ноги на ногу, прижимая к себе Светкин полушубок. — Но если тронет, то запоминай, что за рука. Гладкая — бедный жених…
— Бедного мне не надо. Дальше, — девушка дрожала от холода, постукивая зубами, но при этом еще сильнее сутулилась, чтобы поясница поглубже заходила в предбанник.
— Если волосатая — то богатый. А если мокрая, то…
Вдруг Светка взвизгнула, дернулась вперед, но ее рывком затянуло обратно в баню. Дверь захлопнулась. Аня выпустила из рук полушубок и принялась дергать дверь на себя, но та не поддавалась.
— Свет, открывай! — колотила Аня в дверь, едва не плача. — Не шути так!
Светка упала на пол, когда невидимые руки затянули ее внутрь бани. Она пыталась разглядеть хоть что-то в кромешной темноте. Наконец, глаза привыкли, и в слабом свете от единственного окошка, девушка разглядела, что на полкѐ в парилке сидит Никита и еле сдерживается, чтобы не прыснуть от смеха.
— Это ты?! — Светка вскочила на ноги. — Дебил! Я чуть с ума не сошла!
— Что, Светлана, нагадала себе жениха? — парень протянул к Светке руки. — Ну, прости. Иди, обниму.
Девушка шлепнула его по плечу.
— Дурак! Ты же в Москву уехал.
— Так я вернулся. Ребята сказали, что вы гадать в старую баню пошли, вот я и опередил, — Никита встал в проеме спиной к парилке. — Поедешь со мно…
За его спиной что-то грохнуло. Светке показалось, что это Аня своим стуком в дверь уже начала рушить стены, но грохот повторился и около печки.
Никита сделал шаг к Светке навстречу, но почему-то переместился, наоборот, в парилку, где упал на колени, а потом и вовсе, оказался полностью под полкóм.
Девушка кинулась к нему, пытаясь вытянуть за руки, но страшная неумолимая сила утаскивала Никиту куда-то еще дальше, к стене. Он орал, выпучив глаза. Руки выскользнули из Светкиных, и парень полностью скрылся в щели, отделявшей пол от стены за полкóм.
Светка шарила рукой по полу, нащупала что-то мягкое, покрытое волосами — наверное, это свитер Никиты. Потянула мягкое на себя, но вместо свитера вытянула лохматую черную руку, за которой из-под полкà вылез такой же черный, покрытый шерстью, низкорослый мужик. Девушка закричала, а мужик захохотал, заухал, похлопывая себя по бокам.
— Что, красавица, нужен тебе муж? Смотри, какой ладный!
Светка в ужасе рванула в предбанник, но цепкая черная пятерня удержала ее за лодыжку, и девушка шлепнулась на пол.
— Аня! Закричала она, — Я тут! На помощь!
Черный мужик покачал головой.
— Никто тебя уже не услышит. И Никитка твой — все, кончился, — банник пошарил под полкóм и достал оттуда круглый предмет, размером с мяч, сунув Светке в руки. Девушка с ужасом отбросила его от себя, когда поняла, что это голова Никиты, смотрящая в потолок остекленелыми глазами. Светка осела на пол и заплакала.
— Ну-ну, не реви. Сырости тут и так достаточно. Беру тебя своей обдерихой. В бане-то моей не рожала ни одна баба, не принято сейчас это у вас, вот и не обзавелся хозяйкой.
Банник участливо похлопал ревущую Светку по все еще оголенной пояснице и потянул за руку под полóк. Девушка поняла, что и ее рука теперь не менее черная и лохматая, чем у хозяина бани.
Когда Аня привела помощь, дверь с трудом открыли, но в старой бане, конечно, никого и в помине не было. Только иногда, по ночам, говорят, из-под полкà или из-за печи доносятся грустные вздохи новой обдерихи Светки.