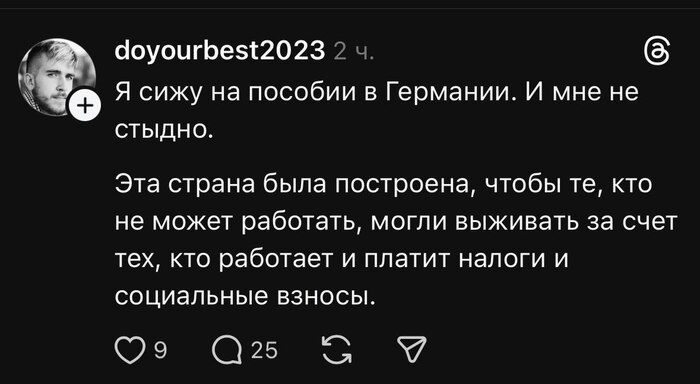Кара-Мурза Сергей Георгиевич (1939—2025) Маркс против русской революции. «Эксмо» 2008 г
Маркс и мироощущение русского народа
Критика религии
...Более того, по мнению Маркса религия не оказывает активного влияния и на становление человека как личности, даже вне зависимости от его национального сознания. В разных вариантах он повторяет тезис: «не религия создает человека, а человек создает религию» Это положение — одно из оснований всей его философии, пафосом которой является критика. Во введении к большому труду «К критике гегелевской философии права» он пишет: «Основа иррелигиозной критики такова: человек создает религию, религия же не создает человека».
В рамках нашей темы это положение принять нельзя. Религия есть первая и особая форма общественного сознания, которая в течение тысячелетий была господствующей формой. Как же она могла не «создавать человека»? Реальный человек всегда погружен в национальную культуру, развитие которой во многом предопределено религией. Русский человек «создан православием», как араб-мусульманин «создан» исламом.
В зависимости от того, как осуществлялось изменение религиозного ядра народного мировоззрения, предопределялся ход истории на века. Раскол на суннитов и шиитов на раннем этапе становления ислама до сих пор во многом предопределяет состояние арабского мира. Последствия религиозных войн, порожденных Реформацией в Европе, не изжиты до сих пор. Глубоко повлиял на ход истории России и раскол русской Православной церкви в XVII веке.
Религия во все времена, вплоть до настоящего времени, оказывала огромное прямое и косвенное влияние на искусство. Если рассматривать искусство как особую форму представления и осмысления мира и человека в художественных образах, то игнорирование роли религии сразу резко ослабляет познавательные возможности обществоведения. Песни и былины, иконы и картины, архитектура и театр — все это сплачивает людей одного народа общим эстетическим чувством, общим невыражаемым переживанием красоты.
Позиция Маркса и Энгельса в отношении к религии и церкви («гадине», которую надо раздавить) выросла из представлений Просвещения (конкретнее, вольтеровских представлений). Эту генетическую связь можно принять как факт — вплоть до семантического сходства (метафора религии как опиума была использована до Маркса Вольтером, Руссо, Кантом, Б.Бауэром и Фейербахом). Предметом представлений Вольтера было именно христианство. По его словам, христианство основано на переплетении «самых пошлых обманов, сочиненных подлейшей сволочью».
Энгельс пишет о христианстве: «С религией, которая подчинила себе римскую мировую империю и в течение 1800 лет господствовала над значительнейшей частью цивилизованного человечества, нельзя разделаться, просто объявив ее состряпанной обманщиками бессмыслицей... Ведь здесь надо решить вопрос, как это случилось, что народные массы Римской империи предпочли всем другим религиям эту бессмыслицу, проповедуемую к тому же рабами и угнетенными».
Здесь Энгельс преувеличивает роль религии в формировании общественного сознания даже буржуазного общества XIX века: «Это лицемерие [современного христианского миропорядка] мы также относим за счет религии, первое слово которой есть ложь — разве религия не начинает с того, что, показав нам нечто человеческое, выдает его за нечто сверхчеловеческое, божественное?.. Мы знаем, что вся эта ложь и безнравственность проистекают из религии, что религиозное лицемерие, теология, является прототипом всякой другой лжи и лицемерия».
Такое же полное отрицание имеет место, и когда речь идет об отношении между религией и социальными противоречиями. Маркс пишет: «На социальных принципах христианства лежит печать пронырливости и ханжества, пролетариат же — революционен».
Обе части этого утверждения не подтверждаются ни исторически, ни логически. Никакой печати пронырливости на социальных принципах христианства найти нельзя — достаточно прочитать Евангелие. В чем пронырливость Томаса Мюнцера и всей крестьянской войны в Германии, которая шла под знаменем «истинного христианства»? В чем видна пронырливость русских крестьян, революция которых вызревала под влиянием «народного православия»? Разве утверждение «Земля — Божья!» является выражением ханжества? Пронырливости нельзя найти и в «Философии хозяйства» С. Булгакова, как и вообще в его трудах, где он обсуждает социальные принципы христианства. Где признаки пронырливости в теологии освобождения в Латинской Америке?
Мнение о революционности западного пролетариата, противопоставленной предполагаемому ханжеству социальных принципов христианства, ничем не подкреплено. Все революции, окрашенные христианством, всегда имели социальное измерение, а вот классовая борьба западного пролетариата в большинстве случаев сводилась к борьбе за более выгодные условия продажи рабочей силы, что с гораздо большим основанием можно назвать пронырливостью.
...К концу 30-х годов был в основном исчерпан политический конфликт советского государства с церковью, возникший в 1918 г. Отойдя от политики и перестав быть идеологической инстанцией, церковь продолжала выполнять свои духовные функции по соединению народа и легитимации государственности. Особенно важными стали эти функции во время войны. В 1943 г. Сталин встречался с церковной иерархией и церкви было дано новое, национальное название — Русская православная церковь (до 1927 г. она называлась Российской). В 1945 г. на средства правительства было организовано пышное проведение собора с участием греческих иерархов. После войны число церковных приходов увеличилось с двух до двадцати двух тысяч.
...Конрад Лоренц писал в 1966 г.: «Молодой «либерал», достаточно поднаторевший в критическом научном мышлении, но обычно не знающий органических законов, которым подчиняются общие механизмы естественной жизни, и не подозревает о катастрофических последствиях, которые может вызвать произвольное изменение [культурных норм], даже если речь идет о внешне второстепенной детали. Этому молодому человеку никогда бы не пришло в голоу выкинуть какую-либо часть технической системы — автомобиля или телевизора — только потому, что он не знает ее назначения. Но он запросто осуждает традиционные нормы поведения как предрассудок — нормы как действительно устаревшие, так и необходимые. Покуда сформировавшиеся филогенетически нормы социального поведения укоренены в нашей наследственности и существуют, во зло ли или в добро, разрыв с традицией может привести к тому, что все культурные нормы социального поведения угаснут, как пламя свечи *.
В первой половине XX века наши марксисты «с научным мышлением», а в конце XX века их дети, ставшие «либералами», приложили огромные усилия, чтобы разрушить культурное ядро общества. В первом случае объектом разрушения была религиозная компонента этого ядра. Это причиняло людям массовые страдания.
Кстати, даже после той катастрофы, что произошла в СССР в 90-е годы, многие наши марксисты не обнаруживают рефлексии и не чувствуют ответственности. Достаточно указать им на высказывания самого Маркса — и они тебя считают мракобесом. «Угнетенной твари» открыто отказывают в праве на «вздох».
* K. Lorenz. La acciо́n de la Naturaleza y el destino del hombre. Madrid: Alianza, 1988.
Заключение. Зачем все это ворошить сегодня
...Сталинское руководство, не имея возможности отцепиться от марксизма, спрятало от советского общества все эти идеи, сфабриковав для внутреннего пользования вульгарную, очищенную версию марксизма. Но уже к 60-м годам талантливые философы, «вернувшиеся» к Марксу, раскопали все эти антисоветские заряды и запустили их в умы трудовой советской интеллигенции. Начиная с 60-х годов XX века и в самом СССР нарос новый слой таких образованных марксистов, они посчитали советский строй неприемлемым искажением и профанацией марксизма — и стали готовить свой антисоветский проект, который и осуществили при поддержке «прогрессивных народов Запада».
В формулы марксизма антисоветская часть нашей элиты «подставила» в качестве реакционного народа, который прогрессивные нации имеют право стереть с лица земли, советский народ. Его и было решено демонтировать, освобождая жизненное пространство и ресурсы для цивилизации. Мы же, если не вникнем в те свойства методологии Энгельса, которые послужили интеллектуальным инструментом для антисоветских сил, не выберемся из этой ловушки.
В какой мере труды Маркса и Энгельса середины XIX века ответственны за то, что поколения партийной элиты СССР середины XX века собирали все интеллектуальные средства, помогающие им в их антисоветском проекте? Если бы инструменты, изготовленные Марксом и Энгельсом, остались втуне, они нас сейчас не интересовали бы. Но поскольку они работают и сегодня, надо их изучать, а роль в этом лично Маркса и Энгельса никакого значения не имеет.
Дж.-М. Кейнс, один из крупных мыслителей XX века, сказал: «Идеи экономистов и политических философов, правы они или нет, гораздо более могущественны, чем это обычно осознается. На самом деле вряд ли миром правит что-либо еще. Прагматики, которые верят в свою свободу от интеллектуального влияния, являются обычно рабами нескольких усопших экономистов».
Значит, мы должны знать, в какую сторону толкают мир те идеи «нескольких усопших экономистов, политических философов», о которых говорилось выше. При подготовке этой работы не имело существенного значения возмущение тем высокомерием, с которым Энгельс высказывался о множестве народов, а также его русофобией. Дело прошлое, обижаться на такие веши глупо, никто не стал бы из-за этого корпеть над книгами и сочинять тексты.
Выше говорилось о том, как высоко оценивал А. Грамши роль присущего марксизму механистического детерминизма в придании оптимизма трудящимся в их борьбе против угнетения. Но затем он выдвинул прямо касающуюся нас мысль о том, что после завоевания власти тот же самый фатализм истмата начинает играть принципиально негативную роль. Грамши продолжает: «Но когда «подчиненный» становится руководителем и берет на себя ответственность за массовую экономическую деятельность, то этот механизм становится в определенном смысле громадной опасностью... Фатализм является не чем иным, как личиной слабости для активной и реальной воли. Вот почему надлежит всегда развенчивать бессмысленность механистического детерминизма, который, будучи объясним как наивная философия массы и лишь как таковой представляющий элемент внутренней силы, с возведением его в ранг осознанной и последовательной философии со стороны интеллигенции становится причиной пассивности, дурацкого самодовольства».
И Грамши записал в «Тюремных тетрадях» такое замечание: «Что касается исторической роли, которую сыграла фаталистическая концепция философии практики, то можно было бы воздать ей заупокойную хвалу, отметив ее полезность для определенного исторического периода, но именно поэтому утверждая необходимость похоронить ее со всеми почестями, подобающими случаю».
Однако предложение Грамши «похоронить истмат со всеми подобающими почестями» не прошло. Марксисты укрепились как жреческая каста и в СССР, и на Западе. Неолиберальная волна на их статусе никак не сказалась, потому что марксисты с ней оказались вполне совместимы — пролетарская революция не созрела, советский строй был реакционным, надо способствовать развитию производительных сил в рамках капитализма. Борьба за интересы трудящихся, на их взгляд, более эффективна в рамках социал-демократии, а небольшие реликтовые компартии везде содержатся как «бронепоезд на запасном пути» — чтобы никто не тревожился из-за отсутствия носителей «и этой альтернативы».
Положение постсоветского пространства иное — здесь не классовая борьба ведется, а происходит «демонтаж» бывего советского народа как «реакционного» и таящего риски и для Запада, и для «новых русских». В отношении этой разновидности гражданской войны люди, мыслящие в категориях марксизма (даже если они об этом не задумываются), представляют собой очень неоднородную общность. В культурном слое России через изучение марксизма прошла практически вся интеллигенция. Она разделились на такие части: 1) освоили сущность и ее отвергли (до революции они уходили в народничество, в религиозную философию, в левый либерализм); 2) освоили сущность и ее приняли (как до революции меньшевики, бундовцы, троцкисты); 3) интуитивно отвергли сущность (не влезая в нее), но оценили полезность «прикрытия» и использовали ее в политической практике (как верхушка большевиков при Сталине); 4) не вникали в сущность, выбирая свою позицию исходя из актуальных политических предпочтений, ~ большинство.
Нередко спрашивают: разве нанесло принятие марксизма как руководящего учения в советском проекте реальный вред России и самому советскому проекту? Я считаю, что перестройка однозначно ответила на этот вопрос. Мы стоим перед фактом, который невозможно отрицать: советское обществоведение, в основу которого была положена марксистская методология, оказалось несостоятельно в предсказании и объяснении кризиса советского общества. Речь идет о фундаментальных ошибках, совершенных большим интеллектуальным сообществом, так что объяснять эти ошибки глупостью, продажностью или предательством отдельных членов или клик в среде партийной интеллигенции невозможно. Те методологические очки, через которые она смотрела на мир, фатальным образом искажали реальность. Идеологический конформизм интеллигенции мог так легко проявиться потому, что теория марксизма не налагала запрета на смену идеалов.
Предпосылки нашей катастрофы закладывались с самого зарождения революционного движения конца XIX века. Русские марксисты — и легальные, перешедшие к кадетам, и революционные — следовали фундаментальным положениям марксизма относительно крестьянства, неободимости этапа развития капитализма и природы пролетарской революции. Считать, что все эти положения для теории марксизма несущественны, никак нельзя. Если бы кто-то пытался их изъять из истмата, это грозило бы обрушить всю конструкцию — потому-то марксисты так ополчились на народников, а в 1902 г. на эсеров.
Большевики были единственной марксистской партией, которая пересмотрела эти положения после революции 1905—1907 гг. (не во всем, но в существенной части). Остальные, включая эсеров, продолжали им следовать даже после Октября 1917 г. Исходя их этих положений они и считали Октябрьскую революцию «незаконной», вредной, антиреволюционной и т.д. Только общей верой в теорию марксизма можно объяснить и тот факт, что даже эсеры, наследники народников, сдались и отказались от своей же аграрной программы, считая антикапиталистическую революцию в России преждевременной.
Кара-Мурза Сергей Георгиевич (1939—2025) Маркс против русской революции. «Эксмо» 2008 г
Маркс и мироощущение русского народа
Отношение к государству
...Бердяев признавал: «Социалистическое государство не есть секулярное государство, как государство демократическое, это — сакральное государство... Оно походит на авторитарное теократическое государство.... Социализм исповедует мессианскую веру. Хранителями мессианской «идеи» пролетариата является особенная иерархия — коммунистическая партия, крайне централизованная и обладающая диктаторской властью».
Напротив, труды Маркса проникнуты крайним антигосударственным чувством, даже более жестким, чем неприязнь к общине. Это чувство подкреплялось присущим марксизму натурализмом, который, уподобляя общество природной системе, подчиняющейся «объективным законам естественного развития», сводил на нет созидающую и организующую роль государства. Энгельс писал: «Столкновения бесчисленных отдельных стремлений и отдельных действий приводят в области истории к состоянию, совершенно аналогичному тому, которое господствует в лишенной сознания природе».
Маркс высказывается о государстве в таких выражениях: «Централизованная государственная машина, которая своими вездесущими и многосложными военными, бюрократическими и судебными органами опутывает (обвивает), как удав, живое гражданское общество, была впервые создана в эпоху абсолютной монархии... Этот паразитический нарост на гражданском обществе, выдающий себя за его идеального двойника... Все революции только усовершенствовали эту государственную машину, вместо того чтобы сбросить с себя этот мертвящий кошмар... Коммуна была революцией не против той или иной формы государственной власти — легитимистской, конституционной, республиканской или императорской. Она была революцией против самого государства, этого сверхъестественного выкидыша общества».
Шпенглер так объяснял отношение Маркса к государству: «Истинный марксист настроен враждебно к государству совершенно по той же причине, что и виг: оно ставит преграды его беспощадной борьбе за свои частные деловые интересы.... Маркс и в этом отношении превратился в англичанина: государство не входит в его мышление. Он мыслит при помощи образа society — безгосударственно. Как в политически-парламентарной жизни Англии, так и в хозяйственной жизни его мира существует только система двух независимых партий и ничего, что стояло бы над ними. Тут, следовательно, мыслима только борьба, без третейского суда, только победа или поражение, только диктатура одной из двух партий. Диктатуру капиталистической, злой партии «Манифест» хочет заменить диктатурой пролетарской, доброй партии. Других возможностей Маркс не видит».
В представлении основоположников марксизма, пролетарская революция лишит государство его главных смыслов, оно «отомрет». Энгельс пишет: «Все социалисты согласны с тем, что политическое государство, а вместе с ним и политический авторитет исчезнут вследствие будущей социальной революции, то есть общественные функции потеряют свой политический характер и превратятся в простые административный функции, наблюдающие за социальными интересами».
Эта глава в учении Маркса нанесла тяжелый ущерб русскому революционному движению в тот период, когда пришедшим к власти большевикам пришлось заняться государственным строительством. Прежняя государственность была разрушена союзом либералов и меньшевиков. Все действия Советской власти по восстановлению армии, правоохранительных органов, правовой системы, вертикали государственного управления приводили к тяжелым дискуссиям и противодействию со ссылками на заветы Маркса.
Среди марксистских движений большевики были единственной партией, которая после 1917 г. боролась за скорейшее восстановление правового, государственного характера репрессий — вместо партийного. Они боролись за обуздание революции. Это вызывало острую критику эсеров и меньшевиков. Они не возражали против внесудебных расстрелов в ВЧК, но подняли шумную кампанию протеста, когда в июне 1918 г. состоялся суд над адмиралом А. Щастным, который обвинялся в попытке передачи судов Балтфлота немцам и был приговорен к расстрелу. Лидер меньшевиков Мартов даже напечатал памфлет, где не стеснялся в выражениях: «Зверь лизнул горячей человеческой крови. Машина человекоубийства пушена в ход... Зачумленные, отверженные, палачи-людоеды...» и пр.
Очень резко выступили эсеры на V съезде Советов. На чем же был основан их протест? Они протестовали против вынесения смертных приговоров путем судопроизводства, поскольку это «возрождает старую проклятую буржуазную государственность». Эта антигосударственная позиция была столь энергичной, что прокурор Крыленко отговаривался с помощью крючкотворства: мол, суд «не приговорил к смерти, а просто приказал расстрелять».
В 1919— 1920 гг. крестьяне и горожане качнулись к большевикам во многом потому, что в них единственных была искра власти «не от мира сего» — власти государственной, И этот инстинкт государственности проснулся в большевиках удивительно быстро, контраст с меньшевиками и эсерами просто разительный. Подводя итог революции, Бердяев писал: «России грозила полная анархия, анархический распад, он был остановлен коммунистической диктатурой, которая нашла лозунги, которым народ согласился подчиниться».
...В ходе строительства советского государства оно шаг за шагом становилось символом, который был понят и принят народом. Утверждение державных символов велось в острой борьбе с оппозицией в ВКП(б), которая, выступая с марксистских позиций, видела в этом возрождение имперской государственности.
Но в полной мере антигосударственный пафос марксизма был мобилизован на первом этапе перестройки, когда команда Горбачева вела подрыв советской государственности под знаменем марксизма-ленинизма и лозунгом «Больше социализма!».
В своей лекции в Мюнхене 8 марта 1992 г. сам Горбачев представлял себя героем, который сокрушил советское государство: «Понимали ли те, кто начинал, кто осмелился поднять руку на тоталитарного монстра, что их ждет? Понимали ли они масштаб того, на что они идут?» Думаю, нет в истории верховного правителя, который говорил бы такое о своем государстве, которому он присягал на верность и которое сам погубил, причем поехал сказать это в Германию — отчитаться. И чем он хвастается — своей государственной изменой: «Мои действия отражали рассчитанный план, нацеленный на обязательное достижение победы... Несмотря ни на что, историческую задачу мы решили: тоталитарный монстр рухнул!».
...Одной из важнейших сил, скрепляющих людей в народ, является язык — как устный, так и письменность. Основа письменности — алфавит, в котором важно и соответствие звукам родного языка, и графика, написание букв, и их расположение, и история создания. Русские с самого начала писали на кириллице — с помощью алфавита, созданного монахами Кириллом и Мефодием. В отношении русского языка в 20-е — 30-е годы в советском обществе велась глухая, но непримиримая борьба. Вплоть до начала 30-х годов шла кампания за перевод русского языка на латинский алфавит, ее поддерживал нарком просвещения А. Луначарский. Он опирался на доводы, почерпнутые из марксизма.
В своей статье 1930 г. А. Луначарский писал: «Графические формы современного русского алфавита отвечают более низкому уровню развития производительных сил, а следовательно, и техники чтения и письма дореволюционной царской России». С другой стороны, он связывал кириллицу с догмой о реакционной сущности русского монархического государства: «С переходом на новую графику мы окончательно освобождаемся от всяких пережитков эпохи царизма в формах самой графики и принимаем интернациональную графику, вполне соответствующую интернациональному социалистическому содержанию нашей печати».
К счастью, время подобной демагогии уже кончалось, и статья эта была опубликована с пометкой, что она содержит спорные мысли. Тем не менее она была напечатана, и это была статья наркома (министра). А. Луначарский пишет: «На этапе строительства социализма существование в СССР русского алфавита представляет собою безусловный анахронизм, — род графического барьера, разобщающий наиболее численную группу народов Союза как от революционного Востока, так и от трудовых масс и пролетариата Запада. Своими корнями этот алфавит все еще уходит в глубь дореволюционого прошлого. Национальные массы Советского Союза еще не забыли его русификаторской роли. Проклятие самодержавного гнета, миссионерской пропаганды, насильственной русификации и великорусского национал-шовинизма еще тяготеет над самой графической формой этого алфавита. Частичная, подготовленная еще до революции радикальной интеллигенцией и осуществленная советской властью реформа русской орфографии приспособила это орудие классовой письменности дореволюционной царской России к потребностям распространения массовой грамотности в годы военного коммунизма и нэп’а. Однако в настоящее время, в момент, когда уже осуществляется генеральный план реконструкции страны, осуществляется строительство социализма, строительство новой социалистической культуры, естественно, что этот, даже исправленный, русский гражданский алфавит перестал удовлетворять наиболее активную, наиболее передовую часть советской общественности».
Свернуть всю эту кампанию удалось только после того, как была разгромлена, самыми жестокими методами, «оппозиция» в ВКП(б). Резкий поворот был совершен после XVII съезда ВКП(б) — в мае 1934 г. постановлением правительства и ЦК ВКП(б) введено преподавание истории в средней школе, следом — постановление о введении в начальной и неполной средней школе элементарного курса всеобщей истории и истории СССР. Было предписано «преодолеть левацкие ошибки М.Н. Покровского», образован исторический факультет МГУ.
Поворот, совершенный в 1934 г., дался непросто. Даже при том что к этому времени созрел культ личности Сталина и его власть казалась незыблемой, отход от антироссийской позиции Маркса и Энгельса был чреват опасным конфликтом с партийной верхушкой внутри СССР и с левой интеллигенцией Запада. Приходилось изощряться и вести восстановление исторической памяти русских «с опорой на марксизм»!
Г.П. Федотов пишет в эмиграции (1937): «Не так давно «Правда» посвятила передовицу славе «великого русского народа». Поразительно, что начинается эта слава цитатой из Маркса: «Россия представляет собою передовой отряд революционного движения в Европе». Если бы Маркс выступал лишь в роли барда русской революции, это было бы в порядке вещей. Но через несколько строк уже противопоставляемый гитлеровскому германизму, бедный Маркс делается апологетом русского народа и русской государственности, жестоко им ненавидимой. Это очень искусный трюк, который сделали возможным усердные штудии Маркса в рязановско-бухаринский период русской революции. Как известно, в России опубликовали множество сочинений, черновиков и записок Маркса из разных периодов его жизни (особенно молодости), которые не имеют ничего общего со зрелым, сложившимся марксизмом. Это дает возможность — не в одной России — интерпретировать марксизм в таком духе, от которого сам Маркс пришел бы в бешенство. Приведенная на этот раз выдержка «Правды» побивает все рекорды...
Карл Маркс выступает на защиту Александра Невского. Доселе Александр Невский, как и все содержание национальной русской истории, интерпретировался в духе марксизма. Теперь Маркс интерпретируется в национальном духе. Недурно?.. Нельзя не видеть, что рождение нового национального сознания в России протекает в тяжких, болезненных формах. Это такие муки родов, которые заставляют вспомнить о кесаревом сечении».
Критика религии
...Создавая свою модель исторического процесса (исторический материализм), Маркс и Энгельс на первый план ставили материальное производство и связанные с ним отношения — материальное бытие. Духовная сфера человека ставилась на гораздо более низкий уровень. Не будем здесь говорить о познавательной ценности этой модели для решения конкретных задач марксизма. Важно то, что положения модели начинали «жить своей жизнью» и восприниматься как общезначимые (да и сами Маркс и Энгельс так их понимали). При этом они резко искажали реальность.
Маркс и Энгельс пишут: «Даже туманные образования в мозгу людей, и те являются необходимыми продуктами, своего рода испарениями их материального жизненного процесса... Таким образом, мораль, религия, метафизика и прочие виды идеологии и соответствующие им формы сознания утрачивают видимость самостоятельности. У них нет истории, у них нет развития: люди, развивающие свое материальное производство и свое материальное общение, изменяют вместе с этой своей действительностью также свое мышление и продукты своего мышления. Не сознание определяет жизнь, а жизнь определяет сознание».
Это принижение роли идеологии, морали, религии и «соответствующих им форм сознания» и их якобы детерминированность развитием материального производства очень дорого обошлись народу России — и в процессе революции, и особенно на последних этапах советского периода. Противоречие между марксизмом как принятой идеологией и религиозным взглядом на бытие как важной части мировоззрения русских людей (даже атеистов), закладывало основу культурного и духовного кризиса. В этом смысле марксизм мог быть принят без конфликта только городским человеком индустриального общества Запада. О. Шпенглер писал: «Материалистическое понимание истории, которое признает экономическое состояние причиной (в физическом смысле слова), а религию, право, нравы, искусство и науку лишь функциями экономики, несомненно в нашей поздней стадии развития обладает какой-то убедительностью, так как оно обращается к мышлению безрелигиозных и лишенных традиций людей больших городов».
...Здесь снова надо вернуться к мысли Маркса о том, что религия является продуктом производственных отношений. Он пишет: «Религия, семья, государство, право, мораль, наука, искусство и т. д. суть лишь особые виды производства и подчиняются его всеобщему закону». Из этого следует, например, что активной роли в становлении национальных отношений, которые явно не подчиняются «всеобщему закону производства», религия не играет. Это — ошибочная установка, которая лишила советское общество важного знания.
Кара-Мурза Сергей Георгиевич (1939—2025) Маркс против русской революции. «Эксмо» 2008 г
Теория революции Маркса: узость модели.
В 30-е годы XX века, после изучения опыта революций прошлого, а также русской революции и национал-социалистической революции в Германии, родилась принципиально новая теория, согласно которой первым объектом революционного разрушения становилась надстройка общества, причем ее наиболее «мягкая» и податливая часть — идеология и установки общественного сознания. Разработка ее связана с именем Антонио Грамши, основателя и теоретика Итальянской компартии.
Учение Грамши о гегемонии стало важной главой в современной политологии. Во многих случаях противостоящие политические силы сознательно планировали свою кампанию как борьбу за гегемонию в общественном сознании по конкретному вопросу. Открытые действия по добиванию власти, утратившей культурную гегемонию, ведут, согласно концепции Грамши (в отличие от Маркса), не классовые организации, а исторические блоки — временные союзы внутренних и внешних сил, объединенных конкретной краткосрочной целью свержения власти. Эти блоки собираются не по классовым принципам, а ситуативно и имеют динамический характер.
В логике учения Грамши велся подрыв гегемонии социалистических сил в СССР и странах Восточной Европы в 70—80-е годы. Этому служил и самиздат, и передачи специально созданных на Западе радиостанций, и массовое производство анекдотов, и работа популярных юмористов или студенческое движение КВН в СССР. Массовая «молекулярная» агрессия в сознание велась непрерывно и подтачивала культурное ядро. Вершиной этой «работы по Грамши» была, конечно, перестройка в СССР («грамшианская революция»). Она представляла собой интенсивную программу по разрушению идей-символов, которыми легитимировалось идеократическое советское государство.
Важным отличием теории революции Грамши от марксистской теории было и то, что Грамши преодолел свойственный историческому материализму прогрессизм. Маркс отвергал саму возможность революций регресса. Такого рода исторические процессы в его концепциях общественного развития выглядели как реакция или контрреволюция. Как видно из учения о гегемонии, любое государство, в том числе прогрессивное, может не справиться с задачей сохранения своей культурной гегемонии, если исторический блок его противников обладает новыми, более эффективными средствами агрессии в культурное ядро общества.
У Грамши перед глазами был опыт фашизма, который применил средства манипуляции сознанием, относящиеся уже к эпохе постмодерна, и подорвал гегемонию буржуазной демократии — совершил типичную революцию регресса. Но теория истмата оказалась не готова к такому повороту событий. Недаром немецкий философ Л. Люкс после опыта фашизма писал: «Благодаря работам Маркса, Энгельса, Ленина было гораздо лучше известно об экономических условиях прогрессивного развития, чем о регрессивных силах».
...Перестройка и начальная фаза рыночной реформы в СССР чистый случай революции регресса, не предусмотренной теориями революции Маркса и Ленина.
Таким образом, революция может иметь причиной глубокий конфликт в отношении всех фундаментальных принципов жизнеустройства, всех структур цивилизации, а вовсе не только в отношении способа распределения произведенного продукта («прибавочной стоимости»).
...«Оранжевые» революции нашего времени — это революции, не просто приводящие к смене властной верхушки государства и его геополитической ориентации, а и принципиально меняющие основание легитимности всей государственности страны. Более того, меняется даже местонахождение источника легитимности, он перемещается с территории данного государства в метрополию, в ядро мировой системы капитализма. Такое глубокое изменение государственности имеет цивилизационное измерение.
Смена власти и в Грузии, и на Украине сопровождалась глубокими структурными изменениями не только в государстве и обществе этих стран, но и в структуре мироустройства. Две постсоветские территории резко изменили свой цивилизационный тип и траекторию развития — они вырваны из той страны, которая еще оставалась на месте СССР, хотя и с расчлененной государственностью. Они перестали быть постсоветскими. Будущее покажет, будет ли это новое состояние устойчивым, но в данный момент приходится признать, что свершилась именно революция.
Кара-Мурза Сергей Георгиевич (1939—2025) Маркс против русской революции. «Эксмо» 2008 г
Реакционные и прогрессивные революции
Стараясь доходчиво объяснить в ответе Ткачеву, почему крестьянская и общинная Россия обязана следовать по пути развития буржуазии с разделением народов по классовому признаку, Энгельс с иронией поясняет эту мысль таким образом: «У дикарей и полудикарей часто тоже нет никаких классовых различий, и через такое состояние прошел каждый народ. Восстанавливать его снова нам и в голову не может прийти».
Эта аналогия ложная. Народники предложили концепцию индустриализации и модернизации России не так, как она осуществлялась в ходе буржуазной промышленной революции на Западе — не через разрушение выработанных культурой общественных институтов, а с опорой на эти институты (прежде всего, на общину). Найти в этой концепции стремление восстановить неклассовое общество «дикарей и полудикарей» невозможно даже при самой вольной трактовке написанного. Эта ирония Энгельса вызывает неприятие не своей нетерпимостью (ради умного замечания можно было бы проглотить насмешку), а своей несостоятельностью, отсутствием логики.
Замечу к тому же, что Энгельс иронизирует в 1875 г., когда в разгаре уже была Реставрация Мэйдзи в Японии — разновидность революции, имевшей целью форсированную модернизацию общества и хозяйства не по западному пути, а с опорой на традиционные (и даже архаичные) японские институты. Например, тогда была сознательно выработана специфическая японская модель промышленного предприятия, построенного не на принципах рынка рабочей силы, а на основе межсословного и межкланового контракта, как это практиковалось в Японии XI века в контрактах между крестьянской общиной, ремесленниками и кланами самураев. «Восстанавливать это нам и в голову не может прийти!» — воскликнул бы Энгельс. Но оказалось, что у Японии были и свои головы.
Теория тех антикапиталистических революций, которые действительно произошли во многих странах, сложилась в России. Она именно сложилась, исходя из анализа реальности, который вели в течение полувека большое число политиков и ученых. Политическую форму этой теории придал В.И. Ленин. Эта теория кардинально расходилась с марксистской, хотя это «обвинение» отвергалось исходя из политической целесообразности.
Теория революции Маркса: узость модели.
Для судеб России важно и то, что наша интеллигенция приняла как догму понятие революции, проникнутое этими представлениями марксизма. Это положение сохраняется практически до сих пор. Например, «Философский словарь» (1991) гласит: «Революция — коренной переворот в жизни общества, означающий низвержение отжившего и утверждение нового, прогрессивного общественного строя; форма перехода от одной общественно-экономической формации к другой... «Переход государственной власти из рук одного в руки другого класса есть первый, главный, основной признак революции как в строго-научном, так и в практически-политическом значении этого понятия» (Ленин В.И.). Революция — высшая форма борьбы классов».
Выделим главные черты, которые приписывает революциям это определение.
Во-первых, революция представлена как явление всегда прогрессивное, ведущее к улучшению жизни общества («низвержение отжившего и утверждение прогрессивного»). Этому определению присущ прогрессизм.
Во-вторых, это определение исходит из формационного подхода к истории. В его поле зрения не попадают все другие «коренные перевороты в жизни общества», которые не вписываются в схему истории как смены общественно-экономических формаций. Этому определению присущ экономицизм.
В-третьих, революция в этом определении представлена как явление классовой борьбы. Из него выпадают все «коренные перевороты в жизни общества», вызванные противоречиями между общностями людей, не подпадающими под понятие класса (национальными, религиозными, культурными и др.).
Это исключительно узкое и ограниченное марксистское понятие служит фильтром, который не позволяет нам увидеть целые типы революций, причем революций реальных, определяющих судьбу народов. Более того, это понятие ошибочно, оно задает нам ложную модель. Перед нами очевидный факт: за последние двести лет в мире не произошло революций, отвечающих приведенному выше определению. Ему соответствуют только буржуазные революции в Англии XVII века и Франции конца XVIII века. В XX веке классовых революций не было, но зато прошла мировая волна революций в сословных обществах «крестьянских» стран, затем волна национально-освободительных революций, а в последние десятилетия — волна постмодернистских «бархатных» и «оранжевых» революций, вызванных геополитическими и культурными противоречиями.
Маркс, как известно, изучал классовое капиталистическое общество (на материале Англии) и назревающую в нем, как он предполагал, пролетарскую революцию. Доктрине марксизма присущ крайний экономицизм — в ней не только революции, но и вообще любая политическая борьба сводится исключительно к экономическим причинам и к борьбе классов, отрицается любая иная природа общественных конфликтов. В важном труде «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» Энгельс пишет: «По крайней мере для новейшей истории доказано, что всякая политическая борьба есть борьба классовая и что всякая борьба классов за свое освобождение, невзирая на ее неизбежно политическую форму, — ибо всякая классовая борьба есть борьба политическая, — ведется, в конечном счете, из-за освобождения экономического».
Такое представление общественных противоречий — крайняя абстракция. В действительности конфликты на экономической почве являются лишь одним из многих типов общественных конфликтов. Чаще всего конфликты возникают на почве культурных различий — в прошлом религиозных, в XX веке — национальных. Разумеется, во всех случаях важную роль играют и экономические интересы, но они каждый раз «сплавлены» с внеэкономическими факторами в своеобразную систему, несводимую к политэкономии.
Американский этнограф К. Янг, посвятивший классификации конфликтов большую книгу (1976), говорил в Москве на конференции «Этничность и власть в полиэтнических государствах»: «Широкомасштабное насилие, имевшее место в последние десятилетия в рамках политических сообществ, в огромном большинстве случаев развивалось по линии культурных, а не классовых различий; в экстремальном случае геноцид является патологией проявления культурного плюрализма [то есть этничности], но никак не классовой борьбы».
...В случае радикальных революций, сопровождающихся гражданской войной, конфликт на экономической почве даже не является главным. Американский социолог (из числа высланных из СССР в 1922 г. философов) П.А. Сорокин пишет: «Гражданские войны возникали от быстрого и коренного изменения высших ценностей в одной части данного общества, тогда как другая либо не принимала перемены, либо двигалась в противоположном направлении. Фактически все гражданские войны в прошлом происходили от резкого несоответствия высших ценностей у революционеров и контрреволюционеров. От гражданских войн Египта и Персии до недавних событий в России и Испании история подтверждает справедливость этого положения».
Марксистское определение революции страдает еще и тем изъяном, что отсылает нас к понятию класса, которое таит в себе большую неопределенность. Споры относительно этого понятия велись после выхода основных трудов Маркса около ста лет. В результате понятие класса усложнилось — основанием для классификации стало не только отношение социальной группы к собственности, но и признаки культуры. На то, что понятие класса вообще трактуется совершенно по-разному в разных культурах, указывалось и раньше.
Например, О. Шпенглер пишет о восприятии этого понятия в Германии: «Английский народ воспитался на различии между богатыми и бедными, прусский — на различии между повелением и послушанием. Значение классовых различий в обеих странах поэтому совершенно разное.
Основанием для объединения людей низших классов в обществе независимых частных лиц (каким является Англия), служит общее чувство необеспеченности. В пределах же государственного общения (т.е. в Пруссии) — чувство своей бесправности».
В другом месте Шпенглер пишет: «Маркс мыслит чисто по-английски. Его система двух классов выведена из уклада жизни народа купцов... Здесь существуют только «буржуа» и «пролетарий», субъект и объект предприятия, грабитель и ограбленный. В пределах господства прусской государственной идеи эти понятия бессмысленны».
...Социальной причиной, по которой классом — могильщиком буржуазии должен стать пролетариат, была, по Марксу, эксплуатация рабочих посредством изъятия капиталистом прибавочной стоимости. Именно пролетариат поэтому был должен и имел право экспроприировать экспроприаторов. Это — очень важное положение марксистской теории революции, особенно для тех стран, в которых промышленный пролетариат составлял небольшую часть населения (как в России, где в начале 1917 г. рабочих фабрично-заводской промышленности с семьями было 7,2 млн. человек, из них взрослых мужчин 1,8 млн.).
Но это теоретическое обоснование неотвратимости пролетарской революции на Западе несет в себе внутреннее противоречие. Дело в том, что, согласно политэкономическим воззрениям самого Маркса, капиталисты были экспроприаторами вовсе не по отношению к пролетариям — у пролетариев они покупали их рабочую силу по ее стоимости, через эквивалентный обмен на свободном рынке труда. Жертвами капиталистической экспроприации были именно крестьяне и ремесленники, жившие и работавшие в некапиталистических хозяйственных укладах, где они вели натуральное хозяйство или мелкотоварное производство. Маркс пишет об этой экспроприации капиталистами: «Превращение карликовой собственности многих в гигантскую собственность немногих, экспроприация у широких народных масс земли, жизненных средств, орудий труда...».
Если так, то как раз не на Западе и не от пролетариата следовало ожидать революции «экспроприированных масс». Ведь особенно большие масштабы «экспроприация у широких народных масс земли» приобрела в зависимых от Запада странах — колониях и странах периферийного капитализма. В.И. Ленин приводит данные западных экономистов, показывающие, что уже в XIX веке земельная собственность в Африке, Полинезии и Австралии была присвоена западными колониальными державами практически полностью, а в Азии — на 57%. По данным Ф. Броделя, в XVIII веке треть всех инвестиций в Англии делались за счет доходов, полученных из Индии.
Да и сам Маркс говорит о тех масштабах, которых достигла экспроприация колоний. Вот пример: «Как известно, английская Ост-Индская компания кроме политической власти в Ост-Индии добилась исключительной монополии на торговлю чаем, как и вообще на торговлю с Китаем и на перевозку товаров из Европы и в Европу... Монополия на соль, опиум, бетель и другие товары стала неисчерпаемым источником богатства... Крупные состояния вырастали, как грибы после дождя, и первоначальное накопление осуществлялось без предварительной затраты хотя бы одного шиллинга... В 1769—1770 гг. англичане искусственно организовали голод, закупив весь рис и отказываясь продавать его иначе как по баснословно высоким ценам. (В 1866 г. в одной только провинции Орисса более миллиона индийцев умерли голодной смертью. Тем не менее все усилия были направлены к тому, чтобы обогатить государственную кассу Индии путем продажи голодающим жизненных средств по повышенным ценам)... Сокровища, добытые за пределами Европы посредством прямого грабежа, порабощения туземцев, убийств, притекали в метрополию и тут превращались в капитал».
...В отличие от марксистской теории классовой революции в России была создана теория революции, предотвращающей разделение на классы. Для крестьянских стран это была революция цивилизационная — она была средством спасения от втягивания страны в периферию западного капитализма. Это — принципиально иная теория, можно даже сказать, что она является частью другой парадигмы, другого представления о мироустройстве, нежели у Маркса. Между этими теориями не могло не возникнуть глубокого когнитивного конфликта, то есть конфликта двух разных познавательных систем. А такие конфликты всегда вызывают размежевание и даже острый конфликт сообществ, следующих разным парадигмам. Тот факт, что в России, следуя ленинской теории революции, приходилось маскироваться под марксистов, привел к тяжелым деформациям и в ходе революционного процесса, и в ходе социалистического строительства.
Кара-Мурза Сергей Георгиевич (1939—2025) Маркс против русской революции. «Эксмо» 2008 г
Ответ Бакунина
Изложенные Марксом и Энгельсом после 1848 г. представления о прогрессивных и реакционных народах, о реакционной буржуазной сущности крестьянства и столь же реакционной сущности славян (особенно русских) вызвали в самом марксизме того времени раскол, который затем перерос в конфликт марксистов с русскими народниками, а затем и в конфликт меньшевиков с большевиками.
Принципиальное неприятие положений Маркса и Энгельса в указанных выше вопросах выразил М.А. Бакунин. Так возник его конфликт с основоположниками марксизма, который привел к их вражде, изгнанию Бакунина из общности марксистов, а в обществоведении СССР — к замалчиванию тех важных идей и прогнозов, которые высказал Бакунин относительно назревающей русской революции. И тем не менее в этом разрыве Бакунина с Марксом есть предвестие будущего скрытого конфликта большевиков с марксизмом. Как сказал о Бакунине Н.А. Бердяев, «в его русском революционном мессианизме он является предшественником коммунистов».
Рассмотрим важные для нашей темы мысли Бакунина, изложенные в его книге «Кнуто-германская империя и социальная революция», которая послужила ответом на серию статей Энгельса о революционных народах, славянах и крестьянах. Прежде всего Бакунин выдвинул тезис о том, что национальный шовинизм (ненависть к «реакционным народам») и социальный шовинизм (ненависть к «реакционному крестьянству») имеют одну и ту же природу. Оба они отражают расизм западного капитализма, который оправдывает присущую ему эксплуататорскую сущность своей якобы цивилизаторской миссией. Бакунин считает, что буржуазная идеология «заразила» этим шовинизмом и рабочий класс Запада, включая рабочих-социалистов.
Бакунин пишет, обращаясь к французским социалистам: «Откуда явилось у них [французских рабочих-социалистов] это притязание, настолько же смешное, как и высокомерное, настолько же несправедливое, как и пагубное, навязать свой политический и социальный идеал десяти миллионам крестьян, не желающих его? Очевидно, это также наследие буржуазии, политическое завещание буржуазной революционности. Каково же объяснение, какова же теоретическая основа этого притязания? Это не более как мнимое или хотя бы даже действительное превосходство ума, образования, одним словом, цивилизации рабочих над цивилизацией деревни. Но разве вы не знаете, что этот же принцип может оправдать все завоевания и всякого рода притеснения?
У буржуа, например, никогда и не было иного принципа для доказательства своего призвания управлять или — что одно и то же — эксплуатировать рабочих. Переходя от одной нации к другой, от одного класса к другому, этот роковой принцип, представляющий из себя не что иное, как принцип авторитета, объясняет и возводит в право все захваты и завоевания. Разве не им руководствовались немцы для осуществления всех своих посягательств на свободу и независимость славянских народов, разве не им оправдывают они все жестокости насильственной германизации? Это, говорят они, победа цивилизации над варварством...
Берегитесь, как бы им вскоре не пришло в голову, что их назначение просветить и осчастливить вас, подобно тому, как вы воображаете, что ваша миссия состоит в том, чтобы цивилизовать и осчастливить ваших соотечественников, ваших братьев, французских крестьян. По-моему, как то, так и другое притязание одинаково гнусно, и я заявляю вам, что и в международных отношениях, и в отношениях между классами я всегда буду на стороне тех, кого хотят цивилизовать таким способом. Я восстану вместе с ними против всех этих высокомерных цивилизаторов, будь то рабочие или немцы, и, восстав против них, я тем самым буду служить делу революции против реакции».
Бакунин категорически отвергает представления Маркса и Энгельса о крестьянстве, об «идиотизме деревенской жизни». Он предупреждает рабочих, что этот социальный расизм в отношении крестьян не имеет под собой никаких разумных оснований. Более того, он выдвигает пророческий тезис о том, что социалистическая революция может произойти только как действие братского союза рабочего класса и крестьянства. Этот тезис Ленин развил в целостную политическую доктрину (которая и стала основанием ленинизма), но надо же наконец учесть, что он был уже вполне определенно высказан Бакуниным и принят народниками.
Бакунин пишет: «В интересах революции, которая их освободит, рабочие должны как можно скорее перестать выражать это презрение к крестьянам. Справедливость требует этого, потому что на самом деле у рабочих нет никакого основания презирать и ненавидеть крестьян. Крестьяне не лежебоки, они такие же неутомимые труженики, как и рабочие; только работа их ведется при иных условиях, вот и все. Перед лицом буржуа-эксплуататора рабочий должен чувствовать себя братом крестьянина».
Отвергает Бакунин и утверждение о реакционной сущности крестьянства, хотя и признает, что социалистическое мировоззрение крестьян не оформлено идеологически. «[Сельский пролетариат]... конечно, по своему положению и по натуре социалист, но — сам того не подозревая», — пишет он. К этим установкам русские большевики пришли, только осознав опыт революции 1905—1907 гг., а марксисты-меньшевики не пришли вовсе.
Бакунин отвергает само представление Энгельса о том, что народы как целое являются носителями или революционных, или реакционных качеств (немцы, мадьяры и поляки революционны, южные славяне и русские — контрреволюционны). Бакунин видит в революционности как раз не этническое, а именно социальное качество, причем исторически обусловленное. Он пишет: «Если верно, что только инстинкт свободы, ненависть к притеснителям и способность восставать против всевозможной эксплуатации и деспотизма служат мерилом человеческого достоинства наций и народов, — а в правильности этого суждения я глубоко убежден, — то нужно сознаться, что с тех пор, как существует германская нация, и до 1848 г. только одни немецкие крестьяне доказали своим восстанием в XVI веке, что этой нации не вполне чуждо это достоинство. Что же касается немецкой буржуазии, то, судя по ее чувствам, по ее поступкам, нам ничего не остается, как признать ее предназначенной к осуществлению идеала добровольного рабства».
Но при этом Бакунин в определении революционности человеческих общностей отвергает и этнический, и классовый детерминизм. Да, во Франции буржуазия в какой-то исторический момент была революционным классом, но это — вовсе не естественное свойство буржуазии, эта революционность была продуктом французской культуры в конкретных условиях. За немецкой буржуазией Бакунин до того момента вообще не признает революционности, о ней он пишет: «Немецкая буржуазия никогда не любила, не понимала свободу, не стремилась к ней. Она живет в своем рабстве спокойная и счастливая, как крыса в сыру, но ей хочется, чтобы сыра было побольше».
Более того, в ходе исторического процесса и под влиянием культурных условий может меняться характер даже отдельных сословий — дворянство рождает революционеров, а буржуазия оказывается реакционной независимо от стадии развития капиталистической формации. Историческая реальность делает нелепой попытку приписать немцам революционный дух, а русским — природную реакционность.
Бакунин пишет: «Оно [крепостничество] действительно изменилось до такой степени, что — упомянем только наиболее характерные факты — с 1818 по 1825 год мы видели, как несколько сот дворян, цвет дворянства, принадлежащего к наиболее образованному и богатому классу, подготовили заговор, серьезно угрожавший императорскому деспотизму, с целью образовать на его обломках согласно желанию одних монархическо-либеральную конституцию или согласно желанию других, значительного большинства, федеративную и демократическую республику, основываясь в том и другом случае на полном освобождении крестьян с наделением их землею. С тех пор не было в России ни одного заговора, в котором бы не участвовала дворянская молодежь, часто очень богатая. С другой стороны, все знают, что по преимуществу сыновья наших священников, студенты академий и семинарий составляют в России священную фалангу революционной социалистической партии.
Пусть господа немецкие патриоты перед лицом этих неоспоримых фактов, которых даже их общеизвестной недобросовестности не удастся опровергнуть, соблаговолят сказать мне, много ли было в Германии дворян и студентов-теологов, восстававших против государства и ратовавших за освобождение народа? И однако ни в дворянах, ни в теологах у них недостатка никогда не было. Отчего же происходит эта бедность, чтобы не сказать — отсутствие либеральных и демократических чувств в дворянстве, в духовенстве и, добавлю также, чтобы быть искренним до конца! — и в буржуазии Германии? А это потому, что раболепство, присущее всем этим почтенным классам, представителям немецкой цивилизации, возникнув как естественное следствие естественных же причин, стало системой, наукой, чем-то вроде религиозного культа, и именно вследствие этого оно превратилось в неизлечимую болезнь.
Можете ли вы вообразить себе немецкого бюрократа или же офицера немецкой армии, которые были бы способны составить заговор и восстать за свободу, за освобождение народов? Несомненно, нет... Ну, а бюрократия русская и русские офицеры насчитывают в своих рядах многих заговорщиков, борющихся за благо народа. Вот разница, и она всецело в пользу России. Но если порабощающее действие немецкой цивилизации и не смогло окончательно развратить даже привилегированные и официальные сословия России, то все же оно постоянно оказывало неблагоприятное влияние на эти классы. И я повторяю, большое счастье для русского народа, что он не проникся этой цивилизацией точно так же, как не проникся и цивилизацией монголов».
Энгельс с симпатией пишет о том, как «жизнеспособные» нации во имя прогресса захватывали земли других народов (славян, мексиканцев) и разрушали их «отсталую» культуру («конечно, при этом дело не обходится без того, чтобы не растоптали несколько нежных национальных цветков»). Бакунин категорически отвергает само это видение. Для него захватчик и колонизатор ненавистен, и он, прямо не вступая в спор с Энгельсом, проходит буквально по его утверждениям, давая им совершенно противоположную оценку.
...Бакунин отвергает и русофобию Энгельса, даже ту, которая направлена не против русских как народа, а против российского государства — при том что сам Бакунин, как революционер и анархист, является врагом этого государства. Он не приемлет эту русофобию как идеологию, как форму фальсификации истории. Вот пара соответствующих выдержек из его книги:
«Друг русского народа, но отнюдь не патриот государства, всероссийской империи, я не представляю себе, чтобы кто-нибудь ненавидел эту последнюю больше меня. Но, желая быть справедливым прежде всего, я предложил бы немецким патриотам оглядеться повнимательнее вокруг себя, и, я уверен, они не замедлили бы убедиться, что, помимо прикрытой лицемерием приличной внешности, их Прусское королевство и их старая Австрийская империя до 1866 г. не были сколь-нибудь либеральнее, ни тем более гуманнее, чем всероссийская империя. Что же касается Пруссо-германской, или кнуто-германской империи, воздвигаемой ныне немецким патриотизмом на развалинах и в крови Франции, то последняя обещает даже превзойти Россию своими злодеяниями. Посмотрим: при всей своей гнусности причиняла ли русская империя когда-либо Германии, Европе хоть сотую часть того зла, какую Германия причиняет теперь Франции и угрожает причинить всей Европе?.. Если русские и обесчестили себя когда-либо и творили ужасы, выполняя кровавые приказы своих царей, так это в Польше. Так вот, я обращаюсь к самим полякам: все русские армии, солдаты и офицеры, совершили ли они хоть десятую часть тех гнусных поступков, какие совершают теперь во Франции все германские армии, солдаты и офицеры?».
«В 1813 году русские пришли в Германию как освободители и, что бы там ни говорили господа немцы, немало способствовали ее освобождению от ига Наполеона. Или, быть может, озлобление против русских ведет свое начало со времен императора Александра I за то, что он не допустил в 1814 г. прусского фельдмаршала Блюхера, вопреки его настойчивому требованию, разгромить Париж? Последнее обстоятельство служит доказательством, что у пруссаков всегда были одни и те же намерения и что по натуре они не изменились. Или они не прощают императору Александру I, что он почти принудил Людовика XVIII дать Франции конституцию вопреки желанию прусского короля и австрийского императора и удивил Европу и Францию, выказав себя, российского императора, более гуманным и более либеральным, чем два великих властелина Германии?».
Кара-Мурза Сергей Георгиевич (1939—2025) Маркс против русской революции. «Эксмо» 2008 г
Реакционный народ – реакционное государство
Русофобия Маркса и Энгельса, их представление о русских как реакционном народе неразрывно связаны с ненавистью к России (и особенно к Российской империи) как государству и стране. В трудах основоположников марксизма это чувство проходит как постоянно звучащий мотив. Оно бросается в глаза и удивляет человека, который начинает читать подряд, без определенной цели, сочинения Маркса и Энгельса — из советского марксизма этот болезненный колорит был вычищен. Эта вульгаризация марксизма пошла нам на пользу, но и сделала нас беззащитными против рассуждений, в которых антироссийский смысл сохранился в неявном виде.
Не будем пытаться проникнуть в происхождение устойчивой и глубокой неприязни Маркса и Энгельса к России. На поверхности лежат три причины, и их нам достаточно.
Русские считались реакционным народом. По мнению Маркса, «народ создает государство» (а сам он порождается «кровью и почвой»). Какое же государство мог породить реакционный народ? Только реакционное. Для таких энтузиастов идеи прогресса, как Маркс и Энгельс, уже этого было достаточно, чтобы видеть в России особую, непохожую на западные государства, реакционную силу.
Российское государство не просто было реакционным, а и опиралось на все те силы, отношения и институты, которые в глазах Маркса были главными генераторами реакционного духа — религию, государственное чувство, общинное крестьянство, нерыночную уравнительную психологию. Таким образом, Россия представала как активный источник реакции, бросающий вызов прогрессивным силам мировой цивилизации.
Наконец, Маркс и Энгельс были великими патриотами Запада, их евроцентризм был высшей пробы. Россия же выросла в огромную империю как альтернативная Западу христианская цивилизация. Она по главным вопросам бытия постоянно предлагала человечеству иные решения, нежели Запад, и стала не просто его. конкурентом, но и экзистенциальным, бытийным противником — как бы ни пытались само государство и элита России избежать такого положения.
О. Шпенглер так говорил о Западе и России: «Здесь есть различие не двух народов, но двух миров. Русские вообще не представляют собой народа, как немецкий или английский. В них заложены возможности многих народов будущего, как в германцах времен Каролингов. Русский дух знаменует собой обещание грядущей культуры, между тем как вечерние тени на Западе становятся все длиннее и длиннее. Разницу между русским и западным духом необходимо подчеркивать самым решительным образом. Как бы глубоко ни было душевное и, следовательно, религиозное, политическое и хозяйственное противоречие между англичанами, немцами, американцами и французами, но перед русским началом они немедленно смыкаются в один замкнутый мир. Нас обманывает впечатление от некоторых, принявших западную окраску, жителей русских городов. Настоящий русский нам внутренне столь же чужд, как римлянин эпохи царей и китаец времен задолго до Конфуция, если бы они внезапно появились среди нас. Он сам это всегда сознавал, проводя разграничительную черту между «матушкой Россией» и «Европой».
Для нас русская душа — за грязью, музыкой, водкой, смирением и своеобразной грустью — остается чем-то непостижимым... Тем не менее некоторым, быть может, доступно едва выразимое словами впечатление об этой душе. Оно, по крайней мере, не заставляет сомневаться в той неизмеримой пропасти, которая лежит между нами и ими».
...Уже незадолго перед войной (в 1938 г.) немецкий историк Вальтер Шубарт в книге «Европа и душа Востока» пишет: «Самым судьбоносным результатом войны 1914 года является не поражение Германии, не распад габсбургской монархии, не рост колониального могущества Англии и Франции, а зарождение большевизма, с которым борьба между Азией и Европой вступает в новую фазу... Причем вопрос ставится не в форме: Третий Рейх или Третий Интернационал и не фашизм или большевизм? Дело идет о мировом историческом столкновении между континентом Европы и континентом России...
Сегодня Европа чувствует себя под серьезной угрозой русского большевизма... Большевистскими властителями тоже руководит настроение противоположения Западу. То, что случилось в 1917 г., отнюдь не создало настроений, враждебных Европе, оно их только вскрыло и усилило».
...Маркс не вникает в особенности того типа многонационального государства, который сложился в Российской империи. Он формирует свои представления на основе чтения политических памфлетов из России. Так, он исключительно высоко оценивает книгу демократа-утописта Н. Флеровского (В.В. Берви) «Положение рабочего класса в России» (СПб, 1869). Маркс пишет о ней Энгельсу: «Это самая значительная книга среди всех, появившихся после твоего труда о «Положении рабочего класса [в Англии]». Прекрасно изображена и семейная жизнь русского крестьянина — с чудовищным избиением насмерть жен, с водкой и любовницами». Чтобы читать эту книгу, Маркс стал изучать русский язык. Он многократно ссылается на эту книгу как на самый достоверный источник знания «о положении крестьянства и вообще трудящегося класса в этой окутанной мраком стране». Из этой книги, по мнению Маркса, «следует, что крушение русской державы должно произойти в ближайшее время». Можно себе представить, что там написал Флеровский.
...Рассуждая в 1866 г. о том, какие страны имеют право на независимое существование, Энгельс делает такой вывод: «Что же касается России, то ее можно упомянуть лишь как владелицу громадного количества украденной собственности, которую ей придется отдать назад в день расплаты».
Серьезная попытка устроить России «день расплаты» и отнять у нее «громадное количество украденной собственности» была сделана германским фашизмом. Перед началом войны Гитлер заявил: «Чем для Англии была Индия, тем для нас станет восточное пространство». До этого о прогрессивной роли «британского владычества в Индии» мы читали у Маркса.
Вожди Третьего Рейха, действительно, с восхищением смотрели на образцовую в марксизме страну — Англию, — имевшую колоссальный опыт колонизаторства, которого Германии, по их мнению, не хватало. Ясно излагает суть Меморандум 1938 года о предстоящей войне с СССР, подготовленный промышленником А. Рехбергом. В нем дано такое обоснование военной доктрины: «Объектом экспансии для Германии представляется пространство России... она обладает неисчислимыми потенциальными богатствами в области сельского хозяйства и еще не тронутых сырьевых ресурсов. Если мы хотим, чтобы экспансия в это пространство обеспечила Германии превращение в империю с достаточной для ее потребностей аграрной и сырьевой базой, то необходимо захватить по крайней мере всю русскую территорию по Урал включительно, где залегают огромные рудные богатства». Тут — прагматическая сторона концепции России как «тюрьмы народов», которые гуманный Запад должен освободить.