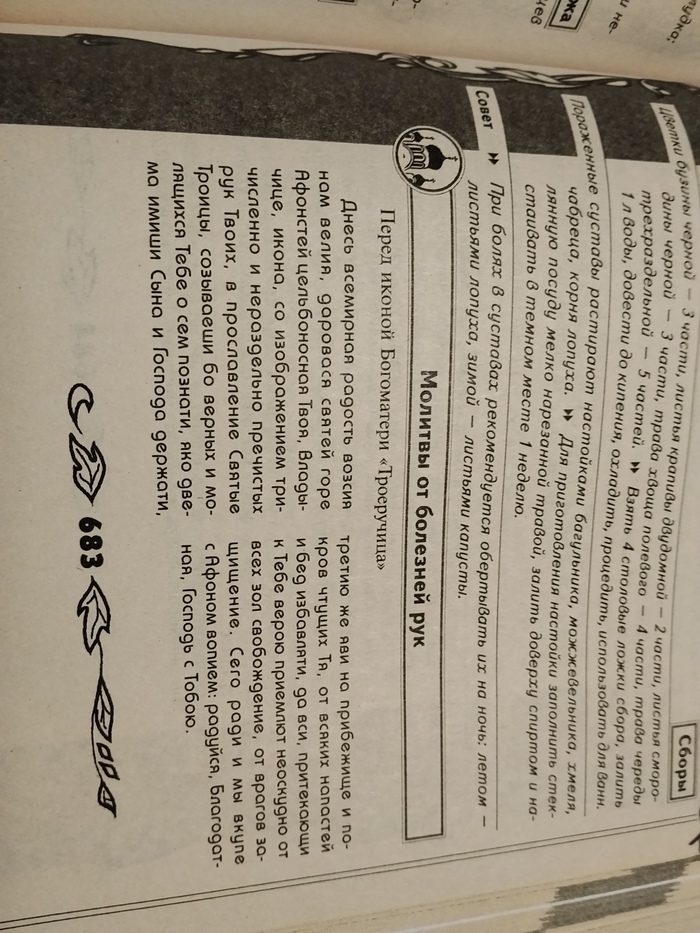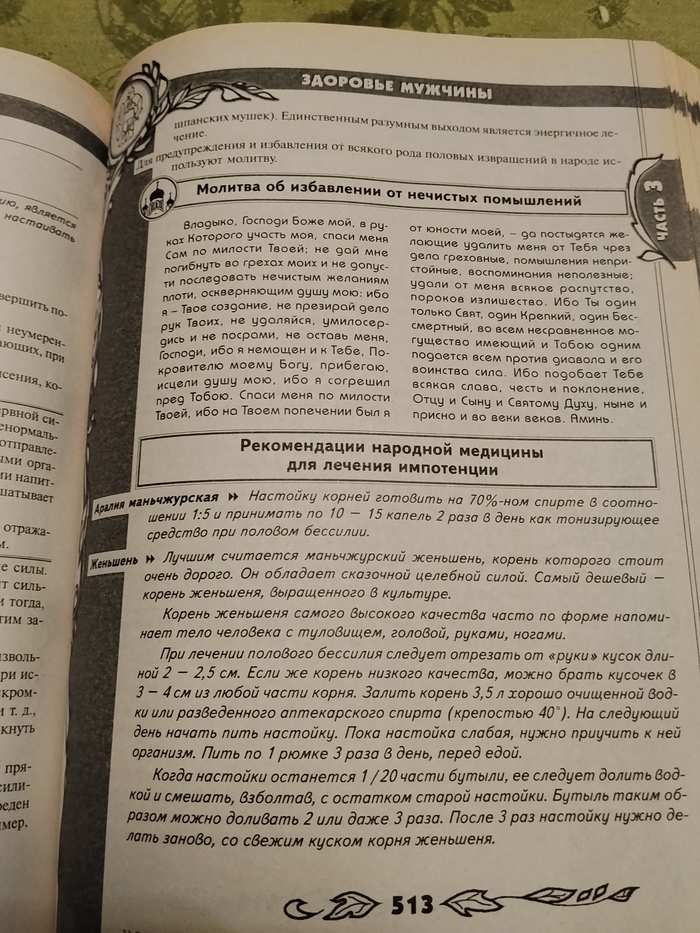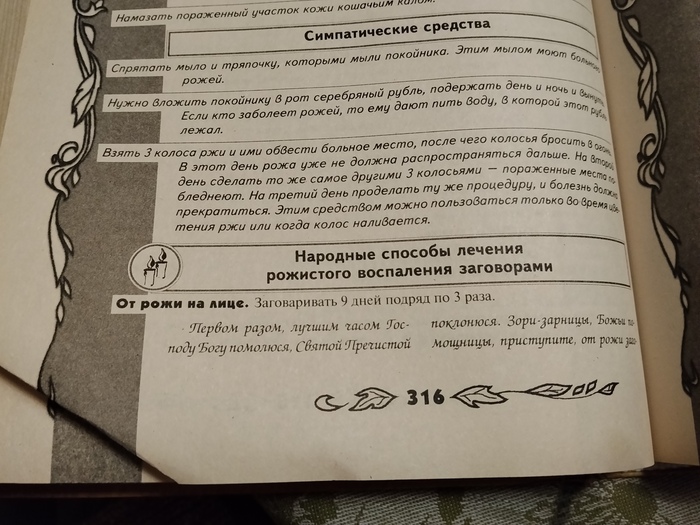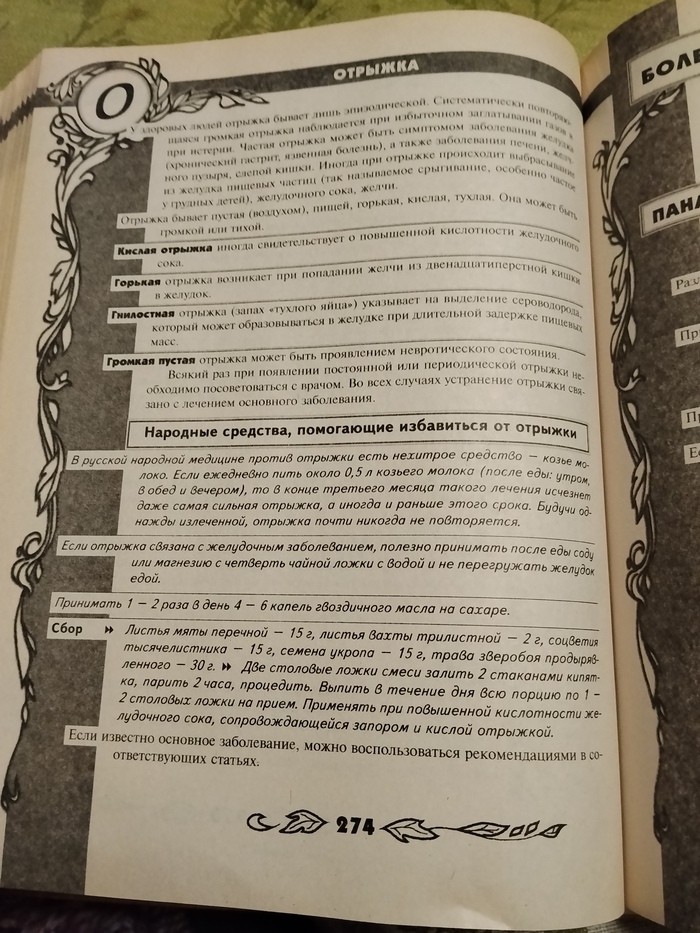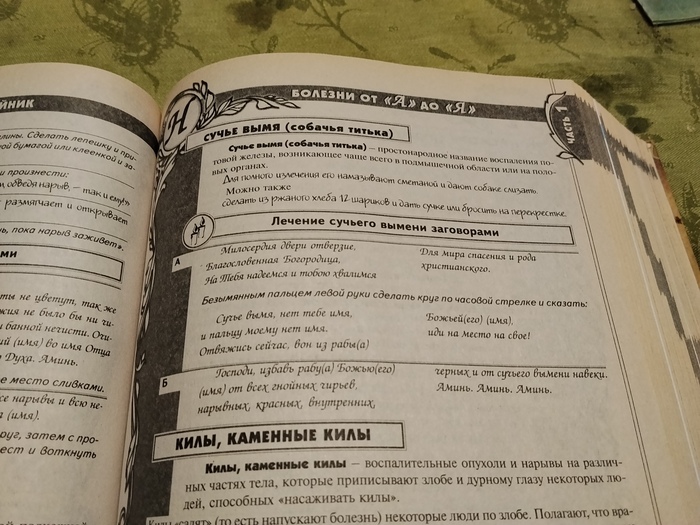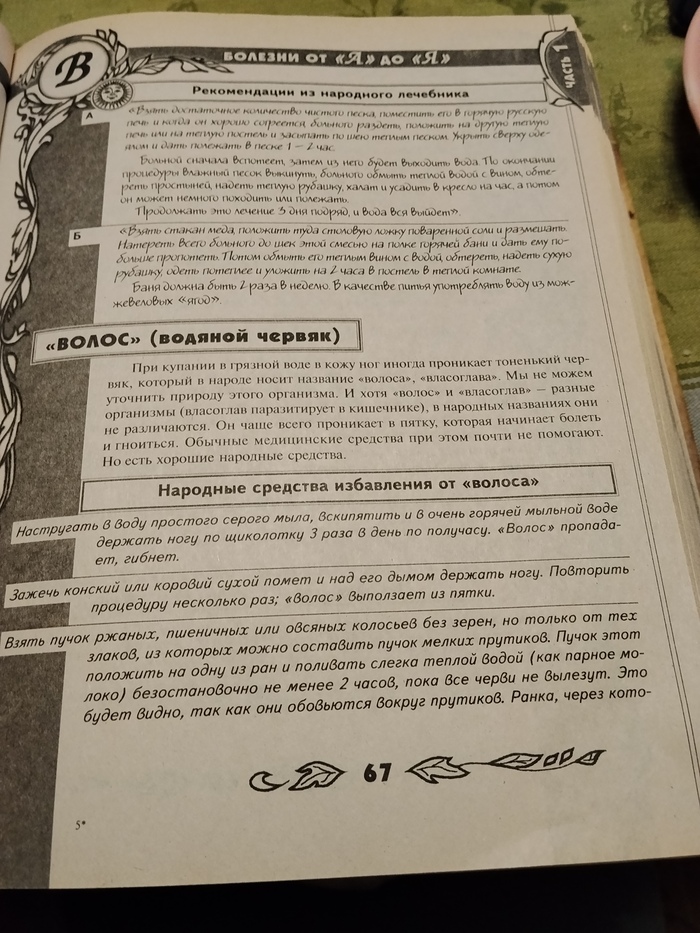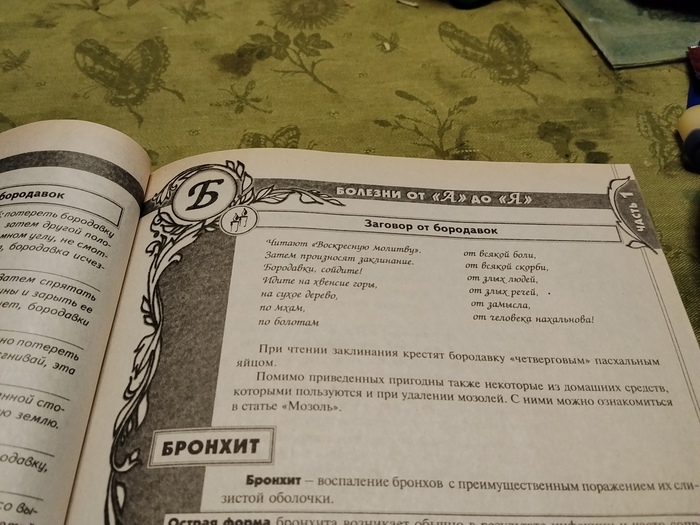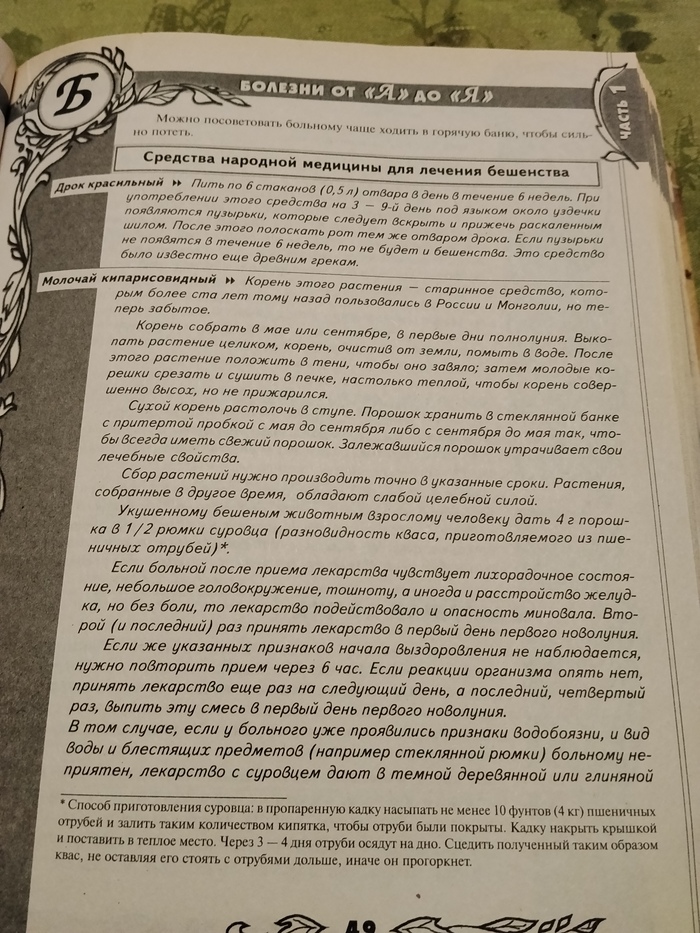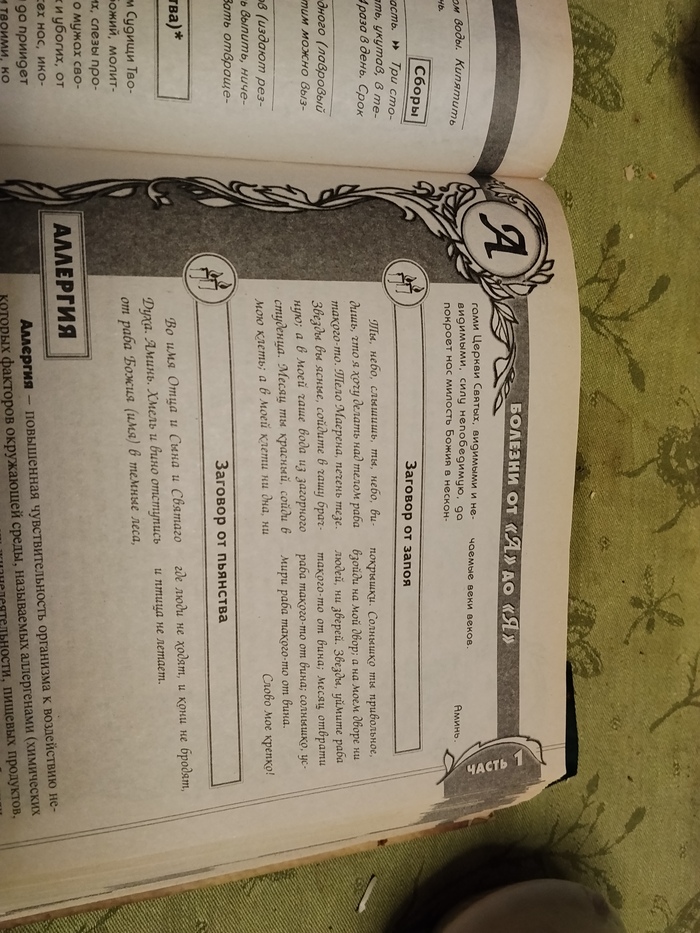Зорич-сын ПриРоды
Декабрь наступил вдруг, в одну ночь, когда подул с северо-востока влажный, студеный ветер и небо заволокло сплошною, низкою пеленою, из которой повалил снег, редкий, колкий, как крупа. К утру всё преобразилось. Деревня , притулившаяся к теперь побелевшему лесу, будто ушла в землю, укрылась словно пуховым одеялом. Стояла тишина особая, глухая, впитывающая всякий звук, та тишина, что бывает лишь в первые дни настоящей зимы, когда земля, еще не окрепшая от мороза, дышит последним смутным сном. Из труб вился сизый, ленивый дым, тянувшийся прямо кверху в безветренном, матовом воздухе. Воздух этот обжигал щеки, горьковато щипал ноздри, пах озябшей хвоей и ледяной водой. В избе Зорича было тепло, пахло тёплым деревом сруба, кисловатым запахом моченых яблок, что хранились в подполье, и тонким, миндальным духом сушёной полыни, развешанной пучками по стенам для очищения. Богдана, жена Зорича, сидела на широкой лавке у окошка и глядела в сероватое, снежное стекло, ей не спалось. Она была на сносях, и срок её уже подходил – чувствовала она это всей своей тяжёлой, усталой, но странно просветлённой плотью. Руки её, небольшие, крепкие, красивые в своей трудовой силе, покоились на огромном, тугом животе, и ей казалось порой, что она держит не себя, а что-то огромное, отдельное, живущее своей, сокровенной жизнью. Она была уже женщиной, статной, рослой, с лицом прекрасным своей правильностью и спокойствием. Большие серые глаза, цвета зимнего неба перед снегопадом, смотрели задумчиво и глубоко. Русые волосы, заплетённые в тугую косу, отливали тёмным золотом в полумраке избы. Она сидела неподвижно, и только грудь её высоко и медленно поднималась под простой холщовой рубахой. Её покой был подобен покою глубоких лесных озер, покрытых первым, ещё тонким льдом – кажется, коснись, и пойдут во все стороны звонкие, роковые трещины.
В одно мгновение в сенях громко затопали ноги, скрипнула дверь и в избу, осыпая снегом порог, ввалилась фигура в огромном, как шуба медведя, тулупе. Это была. Агафья, бабка-повитуха, или, как звали её в деревне, «бабка Агафьюшка». За ней, осторожно ступая, вошла и вторая – Матрёна, поменьше ростом, сухонькая, быстрая, с лицом, сморщенным, как печёное яблоко, и глазами невероятно живыми, чёрными, как угольки.
«Ну, хозяюшка, – прогремел грудной, сипловатый голос Агафьи, пока она отряхивалась. – Чай, дожидаешься нас? А мы вот, почуяли, что не сегодня-завтра твоё время, да и собрались. Холодно на дворе-то, матушки мои! Дух захватывает». Они принесли с собой стужу, запах овчины и снега, и сразу же изба наполнилась иным, деловым, сосредоточенным воздухом. Они были как две древние, мудрые птицы, слетевшиеся на таинственное, им одним ведомое дело. Скинули тулупы, переобулись в мягкие, войлочные чирки, и Матрёна, подмигнув Богдане своими бойкими глазками, сразу же направилась к печи.
«Погреться надо, да и водицы подогреть, – затараторила она. – Всё у нас припасено, хозяюшка, не кручинься. Мы-то своё дело знаем». Агафья же подошла к Богдане, взяла её за подбородок тёплой, шершавой, как коряга, рукой и заглянула в глаза.
«Что, тянуто? Потягивает?» – спросила она тихо, по-деловому. «Тянет баба, тянет, – так же тихо ответила Богдана. – С утра тянет, как туман под сердцем». «Ну, значит, правда не сегодня-завтра, – кивнула Агафья. – Час подходит. Ничего, родим. У меня, милая, рука лёгкая. Со мной не одна сотня на свет появилась». Зорич, услышав голоса, вошёл в избу. Увидев повитух, он смущённо остановился у порога, снял шапку, помялся. «Здравы будьте, бабушки».
«Здрав будь, хозяин, – откликнулась Агафья. – А ты, милок, не мешайся тут под ногами. Ступай-ка, приготовь дровец побольше, да водицы принеси из проруби, свеженькой. Да присмотри, чтобы в сенях теплее было, не дуло. Дело-то твое, мужицкое, – вовне. А здесь – наше, бабье. Понял?»
Зорич покорно кивнул, бросил на жену полный немого вопроса взгляд и вышел. Ему было и тревожно, и в то же время спокойно оттого, что здесь теперь эти старые, знающие женщины, эти частицы самой вековой, родовой мудрости. Зорич, выполнив свою часть дела, метался по двору. Его обычная, звериная уверенность куда-то испарилась. Он, чувствующий малейшую дрожь земли и понимающий язык зверей, был сейчас беспомощнее зайчонка. Руки его тряслись, а внутри все сжималось в тугой, ледяной ком. Вдруг он резко остановился, взглянул на низкое, свинцовое небо, и в его глазах вспыхнуло решение. Он не мог просто ждать. Ему нужен был знак. Ответ. Он развернулся и быстрым, неслышным шагом направился вглубь чащи, к месту своей силы – на поляну, где сходились три лесных ручья.
Приближалось утро. Свечи сменили две сальные лампы , их жёлтый, неровный свет боролся с наступающей из углов темнотой. Богдану уложили на широкую, крепкую кровать, стоявшую в самом тёплом углу, за печью. Настелили свежего, пахнущего летом сена, поверх – чистое, грубое полотно. Матрёна разожгла в печи смолу в чугунке – густой, горьковатый, очищающий дым пополз по избе, щекоча ноздри. Она обходила с этим чугунком все углы, бормоча что-то невнятное, древнее, заклинательное. Агафья же разминала Богдане поясницу и живот своими могучими, знающими руками, и от этого прикосновения боль отступала, превращаясь в терпимую, глухую тяжесть.
«Дыши, милая, дыши, как я тебе, – нараспев говорила Агафья. – Не зажимайся. Боль – она как волна. Накатит – отпусти её через себя, не борись. Ты – берег, а она – вода. Понимаешь?»
И Богдана слушалась, дышала глубоко и шумно, глядя в темноту над полатями, где плясали тени от свечей. Время потеряло свою четкость. Минуты тянулись, как смола, часы пролетали, как ветер за окном. Боль приходила и уходила, нарастая с каждой новой волной, становясь все плотнее, все неумолимее. Она уже не думала ни о чём. Всё её существо сузилось до этого таинственного, страшного и великого процесса, происходившего в её глубине. Она была только плотью, только сосудом, в котором вызревала и рвалась наружу новая жизнь.
Вдруг она ясно ощутила в избе ещё кого-то. Не Зорича, не бабок. Нечто незримое, теплое, пушистое, устроившееся где-то в тени, у печного заулочка. Это было знакомое с детства ощущение – присутствие Домового, Хозяина, Деда. Он был здесь. Не как дух, а как сама атмосфера дома, его тёплое, сонное, охраняющее дыхание. И это присутствие не пугало, а, наоборот, придавало странную уверенность. Казалось, сама изба, эти стены, сжались вокруг неё, оберегая, защищая от всего внешнего, холодного, враждебного.
Схватки стали частыми, яростными. Богдана уже не могла сдерживать стонов. Она вцепилась в толстую верёвку, свисавшую с матицы, и её тело напрягалось и выгибалось в немом, титаническом усилии. Лицо её, мокрое от пота, исказилось гримасой страдания, но в глазах, широко открытых, горел не страх, а какое-то дикое, животное нетерпение, жажда освобождения от этой ноши, от этой боли.
Агафья и Матрёна действовали молча, быстро, как хорошо отлаженный механизм. Их лица стали строгими, сосредоточенными. Никакой суеты. Матрёна подкладывала под Богдану чистые тряпицы, Агафья стояла наготове, её большие, чуткие руки уже чувствовали движение, толчки изнутри.
«Ну, хозяюшка, видно, скоро, – шептала Агафья. – Гони, гони её, свою птичку, на свет Божий. Сильнее!»
И в этот самый миг, когда в горнице стоял один сплошной, тяжкий стон и напряжение достигло своей высшей точки, случилось нечто необъяснимое. Рыжий кот, ленивый увалень, спавший обычно на печи, вдруг спрыгнул вниз. Он выгнул спину, шерсть на нём встала дыбом, и он зашипел, уставившись в тёмный угол у двери. Потом, внезапно переменив гнев на милость, начал мурлыкать. Мурлыкать громко, настойчиво, почти нараспев, как колдун, заговаривающий болезнь. Этот звук, низкий, вибрирующий, наполнил избу, смешался со стоном Богданы и стало казаться, что это мурлыканье – часть самого родового действа, древний звук жизни, пробивающей себе путь. А потом, откуда ни возьмись, в сенях, запел петух. Не сдержанно, а во всю глотку, победно, вызывающе, словно встречал не утро, а сам момент рождения.
И в этот же миг, под этот дикий, торжествующий крик, раздался другой крик – тонкий, пронзительный, полный невероятной обиды на мир и радости вхождения в него.
«Девочка! – выдохнула Агафья, поднимая крошечное, скользкое, алое тельце. –
Здравствуй, милая. Здравствуй на белом свете».
Всё смолкло. Даже петух, исполнив своё, умолк . Кот перестал мурлыкать и, блаженно прищурившись, улёгся у самой кровати. Агафья быстро и ловко обрезала пуповину острым, специально для этого приготовленным ножом, перевязала её льняной ниткой, омыла младенца в тёплой воде с добавлением отвара ромашки и череды. Девочка кричала не переставая, суча тоненькими, сморщенными ножками и сжимая в крошечных кулачках воздух. Богдана лежала, обессиленная, мокрая, но лицо её преобразилось. Страдание ушло, растаяло, как снег на печке, и осталась только светлая, блаженная усталость и какоето внутреннее, глубокое сияние. Она протянула руки.
«Дай, – просто сказала она. Агафья бережно, словно хрустальную вазу, передала ей завёрнутую в мягкую, старую, много раз стиранную пелёнку дочь. Богдана прижала её к груди, к сердцу, и слёзы, тихие, безудержные, потекли у неё из глаз, смешиваясь с потом на щеках. Она плакала беззвучно, а девочка, почувствовав тепло материнского тела, вдруг утихла, лишь всхлипывая время от времени. «Вот и хорошо, вот и славно, – приговаривала Матрёна, убирая вокруг. – Родила, как богатырша. Молодец, хозяюшка. Теперь отдыхай».
Дорога к поляне казалась ему сегодня особенно длинной. Лес затих, прислушивался. Мороз, тот самый, что «крепчал», сжимал все вокруг в ледяные тиски. Ветви деревьев зловеще поскрипывали, словно кости великана. И грани между мирами, и впрямь, истончились до прозрачности. Он чувствовал это каждой клеткой. Войдя на поляну, он сбросил плащ и встал в центре, там, где вода трех ручьев, еще не скованная льдом, сливалась в один небольшой, темный омут. Он раскинул руки, закрыл глаза и погрузился в Стояние. Это было не медитация, а растворение, распахивание дверей собственного существа настежь.
И мир ответил.
Первым его окликнул не дух, а старый друг. С ветки могучего кедра, что склонился над поляной, сорвался знакомый черный силуэт. Карр-рарр! – разрешил тишину Ворон. Птица уселась ему на плечо, клюнула в ухо, не больно, а по-дружески, и проскрипела своим хриплым голосом:
– Зорич! Слышал? В доме твоём писк новый! Девочка! Кровь твоя, плоть Богданы!
Поздравляю, хозяин! Будет у тебя теперь своя стая!
Зорич не открыл глаз, но уголки его губ дрогнули в подобии улыбки. Ворон всегда был первым вестником.
Зашелестели кусты у кромки поляны. И вышел Волк. Он подошел медленно, сел в паре шагов и, запрокинув голову, издал негромкий, протяжный вой – не угрожающий, а полный глубокого, почти человеческого смысла. И Зорич услышал в своем сознании: «Новая жизнь в твоем логове, Страж. Сила ей и остроты клыков. Моя стая будет сторожить границы твои. Лес принимает твоего щенка». Следом, бесшумно, как тень, из-за ствола старой сосны выплыла Мать-Рысь. Ее пятнистая шкура сливалась с игрой света и тени, а круглые глаза в сумерках как два зеленых уголька. За ее мощным телом осторожно двигались два подростка-рысенка, со смешными кисточками на ушах. Рысь не стала подходить близко. Она лишь мурлыкнула, и этот звук, обычно означавший довольство, сейчас был полон торжественной важности.
«Род продолжается, – донеслось до сознания Зорича. – Мои котята и твой детеныш. Они будут расти вместе, под одним солнцем. Охраняй их, как я охраняю своих. И учи… учи ее видеть в темноте не глазами а сердцем».
Зашумела, застрекотала белка, прыгая по ветвям над самой головой Зорича. Она чтото яростно и быстро сообщала, и смысл был прост и ярок: «Я буду для нее таскать самые сладкие орехи! Буду играть с ней! Пусть растет ловкой и веселой!»
Вдруг поляну огласил тяжелый топот. Из чащи вывалились двое подросших медвежат
– Они уже были крупными, неуклюжими подростками, но в их глазах светилась та самая, детская доверчивость. Они подошли вплотную, обнюхали его неподвижные ноги и устроились рядышком, уткнувшись мокрыми носами в его ладони, всем своим видом выражая простую мысль: «Мы тут. Мы с тобой. Наша семья – твоя семья».
И тогда пришли Они. Невидимые, но ощутимые, как давление перед грозой.
– Не тревожься, Страж, – прошелестели голоса, похожие на хруст льда под ногами и шелест замерзшей хвои. – Дитя твое будет жить. Видим мы в ней… небывалое. Силу древних камней, что помнят первое солнце. И мудрость вековых деревьев, что видели смену тысячелетий. Старый дуб на краю поляны, его кора была изборождена морщинами глубже, чем у Матрёны, скрипнул всеми своими ветвями, и скрип этот был полон значения:
– Она… мостом станет, Зорич. Между вашим миром шума и крови… и нашим миром тишины и сути. Береги ее. Ибо мосты и соединяют, и сами находятся под ударом с обеих сторон. А самый тихий голос, похожий на журчание воды под тонким, прозрачным льдом, добавил: – Но помни, Страж: у всего есть цена. Ее дар – слышать нас, говорить с нами – будет и благословением, и испытанием. Для нее. И для тебя. А затем случилось неожиданное. Серебристый свет, нежный и холодный, пролился на поляну, хотя луны на небе не было видно. Он струился из самого воздуха, собираясь в сияющий силуэт высокой женщины с лицом из матового перламутра и волосами, сплетенными из ночного света. Это была сама Мать-Луна. Ее голос прозвучал в душе Зорича, словно тихий перезвон хрустальных колокольчиков, и от него застывали слёзы на ресницах и замирало сердце.
«Зорич, Страж Границ. Прими и мой дар для дитяти, что пришло в мир в час моего безмолвного владычества. Имя, что выбрала для нее мать, – хорошо. Но знай и то, что поведали мне звезды. Они зовут ее Светавой. Ибо душа ее – не холодный свет мой, а теплое, земное золото, что будет озарять самые темные пути. В ней сойдутся мудрость ночи и сила дня».
Силуэт Луны приблизился, и из ее протянутой ладони, сотканной из сияния, на грудь Зорича упал маленький предмет. Это был оберег – капля чистого серебра, внутри которой словно плавала пылинка солнечного света. Он висел на тончайшей кожаной нити, сплетенной из сухожилий ночных животных.
«Это – Слеза Селены, – прошелестел ее голос. – В нем заключен союз ночи и дня, Луны и Солнца. Пусть дочь твоя носит его, не снимая. Он будет хранить ее сон от дурных навьих взглядов, даст ей ясность моего света в мыслях и тепло солнечного камня в сердце. А в час великой нужды… он призовет меня. Но лишь однажды».
Они отступили так же тихо, как и пришли. Лес снова затих. Зорич медленно открыл глаза. Взгляд его был ясен, а на душе – странное спокойствие, смешанное с новой, неизведанной тревогой. Он кивнул Волку, коснулся рукой головы Ворона, встретился взглядом с Рысью. Ничего не было сказано вслух, но все было понятно. Он развернулся и пошел назад, к дому. Его шаг был твердым. Он знал. Когда он переступил порог, его встретила уставшая, но сияющая Матрёна. Она вытирала руки о фартук.
– Все, хозяин. Все милостью боговей. Девочка. Здоровая, крепкая, крик – что твой медвежонок. – Она прищурилась. – Родилась в Навий четверг, до восхода солнца. Это знак. Духи предков сами благословили ее, выбрали ей час появления.
Увидев жену с ребёнком на руках, у него что-то дрогнуло в его суровом, замкнутом лице. Он подошёл, неловко опустился на колени у кровати и приник головой к краю одеяла. Плечи его вздрогнули. Богдана свободной рукой потрепала его всклокоченную голову. «Всё, милый, всё хорошо. Посмотри на неё».
Он поднял голову, с трудом разлепил мокрые от слёз ресницы и посмотрел. Смотрел долго, жадно, с каким-то недоумением и восторгом. Маленькое личико, красное, сморщенное, с закрытыми глазками, казалось ему самым прекрасным и самым странным творением на свете.
«Мезонька… – прошептал он хрипло. – Наша… дочка».
Тем временем бабки уже затеяли свои, древние, ритуальные действия. Матрёна поднесла младенца к печи – живому сердцу дома. Трижды обнесла её вокруг устья, ещё тёплого от огня.
«Прими, Хозяин-Огнище, нового человечка, – бормотала она. – Введи её в круг семьи, дай ей тепла твоего и силушки».
Потом принесли маленькую, дубовую кадку с водой, бросили туда серебряную монетку
– «к богатству», горсть овса – «к сытости», уголёк – «чтоб здоровье было крепкое». И окатили девочку этой водой. Та вздрогнула и снова закричала, но уже не так обиженно. «Вот, теперь вода её знает, земля её знает, и огонь её знает, – удовлетворённо сказала Агафья. – Теперь ничья лихая сила не тронет. Принята».
Избу прибрали, проветрили. Поставили на стол горшок с горячей, душистой кашей –пшенной, на молоке, с большим куском масла посередине. Это была «бабкина каша», которой угощали повитух и всех, кто приходил с поздравлениями. Но прежде, чем сесть за стол, Агафья отложила полную ложку этой каши и поставила её за печку, в тёмный, тёплый заулок.
«Тебе, Дедушка-Хозяин, – сказала она вслух. – Спасибо, что помог, что сторожил.
Прими угощеньице». И всем показалось, что из тени за печкой донёсся тихий, довольный вздох, а может, это просто скрипнуло бревно, остывая.
Весть о рождении девочки разнеслась по деревне ещё до рассвета, будто её разнесли на своих крыльях те самые вороны, что каркали на заиндевевших ветлах у реки. И с первым, зимним, багровым проблеском зари к избе Зорича потянулись люди. Первой пришла соседка, Устинья, женщина молодая, но уже обременённая тремя ребятишками. Принесла с собой глиняный горшочек с топлёными, жёлтыми, какянтарь, сливками.
«На, Богдана, ребёночку на первое время, для силы, – сказала она, краснея. – Сама знашь, каково это». Потом пришёл дед Елисей, старейшина, хромой, с лицом, изрезанным морщинами, как старая карта. Он принёс не вещь, а слово. Встал посреди горницы, поклонился на все четыре стороны, особенно низко – святому углу, и начал говорить, не спеша, словно читая по невидимой книге:
«Приветствуем тебя, новая душа, в наш мир, в нашу долю. Пришла ты в добрый час, в самую долгую ночь, чтобы следом за тобой пришло и новое солнце. Да будешь ты светла, как зоря утренняя, крепка, как дубовый корень, добра, как материнское молоко. Пусть тебя берегут Род-праРодитель и Макошь-пряха, пусть домовой тебя за своё чадо считает, пусть ветер тебе про дороги рассказывает, а вода – про глубины. Расти на радость отцу с матерью, на славу нашему Роду. Слово моё крепко, да будет так». И все, слушавшие его, а собралось уже человек десять, дружно, произнесли: «Да будет так!» И от этих слов, простых и древних, в избе стало как-то особенно торжественно и прочно, будто сама судьба девочки была тут скреплена и утверждена. Потом пошли подарки. Не богатые, но сделанные или выбранные от души. Одна молодка принесла пару шерстяных носочков, связанных из овечьей шерсти мягкого, дымчатого цвета. Другая – берестяной туесок, расписанный красной глиной, узором в виде солнца. Кто-то – маленькую, тряпичную куколку-кувадку, такую древнюю, что, кажется, и мать её матери такой играла. Мужики клали на стол кто моток хорошей пеньковой верёвки («в хозяйстве пригодится»), кто вырезанную из липы ложку.
Самый необычный подарок преподнёс старый, глуховатый Миром, живший на отшибе, у леса. Он был известен тем, что понимал язык деревьев и птиц. Он принёс небольшой, гладкий, отполированный временем и водой камень цвета тёмного мёда. В нём была естественная сквозная дырочка.
«Это – камень-гусь, – сказал он, и голос его звучал глухо, как шум леса. – Нашёл его в реке, ещё летом. Он тёплый, видишь? Никогда холодным не бывает. Пусть лежит в колыбельке, охраняет сон. От дурного глаза, от ночных плаксов. Он, этот камень, старше всех нас здесь, он память земли хранит. Пусть и дитя землю помнит». Камень действительно был на удивление тёплым, живым на ощупь. Богдана взяла его с благодарностью и сразу же положила в люльку, что уже стояла наготове, подвешенная на гибком ореховом очепе к матице.
А имя… Об имени думали все. Предлагали разные: и Маланья, и Арина, и Василиса. Но Богдана молчала, прислушиваясь к чему-то внутри себя. Она смотрела в маленькое, теперь уже спокойное личико дочери и ждала знака.
И знак пришёл. Зорич протянул ладонь Богдане на котором лежал не просто подарок-оберег Матери-Луны это была присяга ,обет всех сил, что хранит в себе Матушка -ПриРода. И он рассказал Богдане что произошло на стоянии, пока она рожала .
-Я стоял у камня на слиянии трёх ручьёв и ждал. Ждал твоей вести. Тишина была полная, тяжёлая, и в ней только билось моё сердце – глухой набат тревоги и надежды.
Первым пришёл Ворон. Старый друг. Каркнул, сел на плечо, клюнул в ухо: «Слышал, Зорич. В доме твоём новый писк. Девочка. Поздравляю, хозяин. Будет теперь своя стая». И улетел. Я облегчённо выдохнул. Значит, живы. Значит, – дочь.
Из-под елей вышел Волк. Мой верный друг, сел напротив, запрокинул морду и выл –не по-звериному, а словно песню пел. И я понял что он мне сказал «Новая жизнь в твоём логове, Страж. Сила ей. Моя стая будет границы твои сторожить. Лес принимает твоего щенка». Я кивнул ему в ответ.
Затем из тени выплыла Рысь с двумя подросшими котятами. Не подошла близко, только смотрела своими зелёными угольками. И мысль её была ясна: «Род продолжается. Мои – и твои. Расти вместе. И учи её видеть в темноте не глазами, а сердцем».
Проснулась вся лесная мелочь. Белка стрекотала над головой, обещая таскать для девочки самые сладкие орехи. Дятел отбил весёлую дробь. Даже сонные совы выглянули. Потом пришли медвежата. Они улеглись у моих ног, делясь простым, тёплым, как печной жар, чувством: «Наша семья – твоя семья».
А потом явились Те, кого не увидишь. Голоса, похожие на скрип векового льда и шелест коры, зазвучали в самой кости: «Не тревожься. Дитя твоё будет жить. Видим мы в ней силу древних камней и мудрость тысячелетних деревьев».
Старый дуб на краю поляны проскрипел всеми сучьями: «Она, Зорич, мостом станет. Между вашим миром и нашим. Береги. Ибо мост и соединяет, и сам уязвим».
И тогда хлынул свет. Холодный, серебряный. И в нём – Она. Луна-Мать. Голос Её прозвенел в самой душе: «Страж Границ. Дитя, рождённое под Моим покровом, несёт в себе свет зари. Имя «Заря» – хорошо. Но звёзды шепчут Мне иное: Светава. Ибо душа её – тёплое золото, что озарит тьму».
Она протянула руку, и на мою грудь упал дар – «Слеза Селены». Капля лунного серебра с солнцем внутри. «Пусть носит, не снимая. Будет хранить сон, даст ясность ума и тепло сердцу. А в час великой, последней нужды – призовёт Меня. Но лишь однажды».
Я принял оберег. Свет угас. Поляна опустела. Но я был там не один. Весь лес, вся вода, все духи этого места – дали обет. Принесли присягу. Нашу дочь взяли под свою стражу.
Так что знай, Богдана. Зареница наша – не только наша теперь. Она –Светава. Мост. И за неё в ответе – целый мир.
К полудню тучи окончательно разошлись, и день выдался на редкость ясный, солнечный, морозный. Лучи солнца, низкого, зимнего, но уже набирающего силу после солнцеворота, ворвались в окно и упали прямо на колыбель. Пылинки закружились в золотых столбах света, и всё вокруг и бревенчатые стены и само личико младенца – озарилось этим чистым, радостным светом. И в этот миг девочка открыла глаза. В первый раз. Они были пока неопределённого, бледно-голубого цвета, но в них отразилось это самое солнце, эта самая зимняя заря, что горела на небе.
«Заря, – тихо, но чётко сказала Богдана. Все обернулись к ней. – Пусть будет Заря. Заряница».
Наступило молчание. Потом дед Елисей медленно кивнул.
«В самую пору. Родилась в канун нового солнца – и сама станет светом для рода. Заря. Имя это – обережное. Не всякая нечисть свет вытерпит. Да будет Заря».
«Да будет Заря», – снова, как эхо, откликнулись все.
И имя, как птица, вспорхнуло и зажило своей жизнью в тёплом воздухе избы, став частью этого дня, этой семьи, этой долгой, продолжающейся истории. Гости разошлись только к вечеру, насыщенные кашей, разговорами и общим, светлым чувством причастности к чуду. В избе остались только свои: Зорич, Богдана с маленькой Зарей на руках, да две уставшие, но довольные бабки, досиживавшие последнюю чашку чая с мёдом перед тем, как отправиться по домам.
Стемнело. Зорич засветил лампу. Пламя затрепетало, осветив умиротворённые лица.
Богдана, полулежа на кровати, кормила дочь. Тишина была полная, благодатная, нарушаемая только посапыванием младенца да потрескиванием головешки в печи.
«Вот и слава Богам, – выдохнула Агафья, отставляя чашку. – Всё обошлось благополучно. Девочка крепенькая, славная. И вы, хозяева, молодцы. Спокойные какие. Это главное – спокойствие. Оно младенцам передаётся».
«Благодарю вас, матушки-бабушки, – голос Зорича прозвучал необычно мягко. – Не знаю, что бы мы без вас…»
«Да брось, – отмахнулась Матрёна. – Наше дело такое. Ты лучше заботься, чтобы хозяюшке покой был, да чтобы в избе тепло было. Молока ей побольше тёплого, да бульонцу куриного. Силы восстанавливать».
Они собрались, стали кутаться в свои тулупы. На прощание Агафья ещё раз подошла к колыбельке, пошептала что-то над спящей Зарей, поправила одеяльце.
«Спи, зорюшка, спи, ясная. Расти большая. У тебя теперь целый Род за спиной стоит. И живые, и мёртвые. Ничего не бойся».
И вышли, скрипя снегом, растворившись в синеватой мгле зимней ночи. Зорич запер дверь, вернулся в горницу. Сел рядом с женой на лавку, обнял её за плечи. Они молча сидели так, глядя на колыбель, где под мерный скрип очепа спала их дочь, их Заря. Всё было закончено. И всё только начиналось. За окном стояла та самая долгая, навийская ночь, полная тайн и древних страхов. Но здесь, в этой тёплой, освещённой живым огнём горнице, страха не было. Была только эта новая, хрупкая и невероятно прочная жизнь. Была усталость, похожая на счастье. Была тишина, похожая на музыку. Была любовь – простая, немудрёная, как хлеб, как вода, как само дыхание. И казалось, что сама изба, эти стены, вобравшие в себя столько вздохов и смеха, дышат сейчас особенно глубоко и ровно, храня в своём срубе это новое, драгоценное тепло – тепло только что зажжённой человеческой жизни, обещание нового дня, новой зари в бесконечной череде Родовых дней и зорь.
Зорич -сын ПриРоды
Тварь я дрожащая или право имею? Природа уже знает ответ.
Её прозвали «Чёрным Кашлем». Вирус, вырвавшийся из лабораторных глубин павшего мира, не оставлял шансов. Люди гибли, захлёбываясь собственной кровью, их лёгкие отказывали за считанные дни. Цивилизация рухнула, скрытая чёрной пеленой смерти. Отдалённая Вепская земля с её древними лесами и забытыми деревнями стала одним из последних островков жизни. Но волна смерти докатилась и сюда.
Часть 1: Тихое проклятие
Сначала Зорич, страж Урочища, заметил лишь неестественную тишину. Птицы умолкли, звери ушли вглубь чащи. Потом с предгорий потянуло смрадом горящих тел.
Она не вошла, а рухнула на порог его жилища, подкошенная страшной хворью, словно тростник под ударом топора. Её тело, ещё недавно сильное и ловкое, безвольно распласталось на поросшем мхом полу. Голова с влажными от пота волнами тёмных волос откинулась, обнажив тонкую, бледную шею, где уже проступали зловещие тёмные прожилки. Красота её была подобна подрубленному дубу — величественной даже в падении. Черты лица, отточенные и ясные, казались высеченными из мрамора, но мрамора больного, с тем самым «багряным чумным румянцем», что пылал на щеках алым стягом смерти. Длинные ресницы, мокрые от испарины, лежали на синеватых тенях под глазами. Из полуоткрытых, потрескавшихся губ вырывался хриплый, прерывистый звук — не крик, а предсмертный хрип, который был страшнее любого вопля. Её пальцы, сильные и умелые, которыми она ещё вчера, возможно, плела кужель, судорожно впились в мох, будто ища опоры в ускользающем мире. От неё пахло не жизнью — не хлебом и дымом, а смертельным смрадом хвори — смесью горящего железа и увядшей полыни.— Чёрный… Кашель… — выдохнула она, падая. Увидев Богдану на пороге, Зорич на мгновение окаменел. Затем его сознание заработало с чёткостью боевого механизма. Он не стал переносить её далеко, чтобы не трясти в лихорадке, а бережно перетащил в сторону, на ложе из мягких шкур и высушенного мха. Он не сразу начал поить её снадобьями. Сперва Зорич развёл прямо у входа малый очистительный костёр из можжевельника и бросил в него щепотку сушёного зверобоя. Зорич и Богдана не были чужими. За годы до Чащерного Урочища и Чёрного Кашля их судьбы уже пересекались на пыльной улице маленькой вепской деревни. Они сидели за одной партой в начальной школе. Он — замкнутый мальчик, чьи взгляды постоянно ускользали через окно в сторону леса. Она — живая, яркая девочка с смехом, который звенел на всю классную комнату, дочь уважаемых в деревне людей. Её отец был кузнецом, чья кузница стояла на отшибе. Зорич, тогда ещё просто мальчишка, часто завороженно наблюдал, как тот, могучий и потный дядька, рождает из огня и металла полезные вещи — подковы, топоры, ножи. А мать Богданы трудилась на ткацкой фабрике в соседнем посёлке. Она приносила домой яркие обрезки ткани, из которых Богдана шила наряды своим куклам. Они были из разных миров: он — из мира тишины и тайн леса, она — из мира огня, металла и грохота станков. И вот теперь их миры столкнулись вновь. На пороге его убежища лежала не просто красивая незнакомка, а девочка из его прошлого, чей отец когда-то выковал его первый охотничий нож. Это знание придавало его действиям новую силу — это был долг. Долг перед памятью о общем детстве, перед её родителями, чей труд был так же честен и суров, как труд его деда.
«Дымом-стеной, огнём-щитом, Обходи хворь стороной. Не для тебя этот порог, Не для тебя этот урок.» Шептал он заговоры, окуривая помещение, он создавал невидимый барьер, отсекая «дух болезни» от её источника. Он знал, что «Чёрный Кашель» пожирает лёгкие изнутри, вызывая гниение. Нужно было остановить это. Он взял добрую горсть серо-зелёной Уснеи Бородатой, этого лесного антибиотика, и бросил в слабый раствор горячего спирта. Пока он настаивался, Зорич растирал в ступе сухую Цетрарию (Исландский мох) в мелкую пыль. Он будет нужен позже, чтобы смягчить и заживить. Когда настой Уснеи остыл до тёплого, Зорич бережно приподнял голову Богданы и ложкой влил ей глоток целительного зелья.
«Уснея-борода, сила твоя крепка. Пронзи хворь густую, как туман,
Выжги скверну из белых костей. Верни лёгким дыхание, а телу — покой.».
Он вливал в неё не просто настой , а своё намерение, заклинание, обращённое к духу травы. Он видел не просто больную девушку а ту самую девочку, которая когда-то смеялась на школьном дворе. Его заговоры стали более личными. Шепча «Цепляйся за этот свет, Богдана», он мог мысленно добавлять: «Помнишь, как мы бежали с уроков? Помнишь запах металла из кузницы твоего отца? Вот за это и цепляйся». Его решимость укрепилась. Он не мог позволить болезни отнять у мира дочь кузнеца и ткачихи. Спасти её значило спасти частицу того старого, нормального мира, который они когда-то знали. Лихорадка сводила Богдану с ума. Зорич развёл в миске густую пасту из растёртой коры осины (природный аналог аспирина) Лобазника и прохладной глины. Этой массой он обмазал её виски, запястья и ступни — места, где кровь течёт близко к коже, — чтобы «вытянуть огонь». Он готовил сложное снадобье, «Чай четырёх сил» Зорич действовал как часовой, отмеряющий каждый шаг ритуала. Свет от пробивающегося сквозь хвою утреннего солнца падал на его неподвижную фигуру у низкого очага. Он расстелил на скамье чистый холст и разложил на нем четыре берестяных туеска. Открывая каждый, он нашептывал его силу: Из первого туеска он извлек Пармелию — серые, кружевные ломтики лишайника. «Сила Огня. Жги заразу», — прошептал он, отмеряя три щепоти в глиняную чашу-мешалку. Из второго посыпались мелкие листочки Чабреца. «Сила Ветра. Гони хворобу из костей». Две щепоти. Из третьего — темно-зеленые, сморщенные листья Малины. «Сила Воды. Уйми внутренний пожар». Две щепоти. Из четвертого — соцветия Таволги, пахнущие медом и горьким миндалем. «Сила Земли. Усмири боль, даруй покой». Две щепоти. Он не смешивал их, а лишь соединил в одной чаше, позволив им познакомиться. В небольшой, почерневший от дыма медный котелок он налил ровно два полных ковша родниковой воды — 400 мл. Вода плескалась, подхватывая первый солнечный луч. «Вода-сестра, стань проводником, донеси силу до каждой клети, до каждой жилки. Котелок был поставлен на треногу над уже подготовленными углями — без открытого пламени, но с ровным жаром. Зорич сел на корточки и не сводил глаз с воды, замерший в ожидании. Он ловил момент «белого ключа» — когда со дна начинают подниматься первые пузыри, похожие на жемчужные россыпи, а на поверхности вода мутнеет, но еще не кипит. Это был знак. Одним движением он опрокинул в котелок всю смесь трав. Шипения не было — был лишь глухой звук и мгновенное распространение густого, горьковато-сладкого аромата, который ударил в нос, как боевой клич. Он тут же снял котелок с огня, накрыл его деревянной крышкой и, не медля, укутал его в свой старый, пропахший дымом и травами плащ, словно укачивая младенца. Образовался теплый кокон. Зорич отнес его в самый темный угол жилища и поставил на дубовый пень.
«Теперь ваша воля. Четыре духа, сойдитесь воедино. Дважды по девять и еще девять дыханий.» Он сел рядом, в позу сторожа, и погрузился в полную неподвижность, следя за внутренними часами. Ровно 27 минут он не шевелился, лишь его губы беззвучно шептали заговор, вплетая его в самую суть настоя. Когда время истекло, он развернул плащ. Крышку он снял медленно, выпуская наружу концентрированный, живительный дух. Настой имел цвет темного янтаря, а на его поверхности переливалась радужная пленка эфирных масел. Он взял лоскут чистого, грубого льна и процедил жидкость в другую глиняную чашу. Травяная гуща осталась на ткани — свою работу она сделала. В чаше теперь плескалось снадобье «Чай четырёх сил» — не просто отвар, а квинтэссенция воли целителя и духов леса, готовая вступить в бой за жизнь Богданы. Оно было горьким, терпким, но за этой горечью скрывался аромат хвойного леса, летнего луга и надежды. Ночь стала самым тяжёлым временем. Богдану бил такой кашель, что казалось, её лёгкие вот-вот разорвутся. Зорич поставил рядом с ней плоский камень, накалил на огне докрасна другой камень-валунчик и капал на него отвар чаги, смешанный с пихтовой смолой. Густой, едкий, целебный пар поднимался к потолку. Он заставлял Богдану дышать этим дымом, пробивая заторы в её лёгких. Сидя у её изголовья, он не спал. Он клал руку на её горячий лоб и тихо, монотонно, как шаман, читал главный заговор — заговор на волю к жизни: Это превращало лечение из акта милосердия в акт верности памяти и искупления. Он спасал не просто жизнь — он спасал живое напоминание о своей собственной, другой, человеческой жизни.
Первые лучи солнца, бледные и осторожные, пробились в жилище Зорича, словно пытаясь разглядеть — кто одержал верх в ночной битве. Воздух внутри был тяжёлым, пропитанным запахом целебных дымов, пота и горьких трав. Над остывшим очагом всё ещё висела лёгкая дымка — призрак вчерашнего сражения. Богдана лежала на своём ложе из шкур. Страшный, багряный румянец, пылавший на её щеках, уступил место мертвенной, но уже природной бледности. Синева под её глазами не исчезла, но стала менее тёмной, как тучи после прошедшей бури. Самое главное — её дыхание изменилось. Оно больше не было тем хриплым, рвущимся на части предсмертным свистом. Теперь это были глубокие, ровные, хоть и ослабленные вздохи. Грудь поднималась и опускалась спокойно, без той судорожности, что терзала её всю ночь. Она спала. Но это был не тот тяжёлый, безпамятственный сон, в который она провалилась накануне. Теперь это был целительный покой, время, данное телу на восстановление. Иногда её веки чуть вздрагивали, а пальцы шевелились — признаки того, что сознание потихоньку возвращается из глубин. Зорич сидел у её изголовья, в той же позе, в которой провёл всю ночь. Его спина была прямой, но плечи выдали глубочайшую усталость. Тени под его глазами были густыми, как чернила. Одна его рука всё ещё лежала на шкуре рядом с её головой, будто он и во сне продолжал охранять её покой. Рядом стояла почти полная чаша остывшего «Чая четырёх сил» — свидетельство того, что в самые тяжёлые часы ночи он без устали поил её, капля за каплей вливая в неё жизнь. На столе лежали остатки глиняной пасты от жара, а в воздухе витал лёгкий, едва уловимый аромат исландского мха — следующее лекарство, уже приготовленное и ждущее своего часа. Когда солнце поднялось выше и луч упал прямо на лицо Богданы, она слабо зашевелилась. Не проснулась, а лишь глубже вдохнула, повернув голову, уходя от света. И на её лице не было гримасы боли — лишь умиротворение уставшего, но живого человека. В этот миг Зорич медленно выдохнул. Он не улыбнулся. Не было триумфа. Было лишь молчаливое, выстраданное облегчение. Он откинулся спиной на теплую стену своей сосны-крепости и впервые за много часов позволил векам сомкнуться. Битва была выиграна. Путь к выздоровлению — только начат. Но самое страшное осталось позади. Тишина утра была уже не зловещей, а мирной, и её нарушал лишь ровный, живой звук дыхания Богданы.
— Никого… не осталось… Бежать было некуда. Уроки Горазда и Радмилы стали его щитом: «Твой долг — беречь жизнь, какая есть». Зорич объявил войну невидимому врагу Он силой и угрозой заставил оставшихся в живых жить поодиночке в избах на окраинах. Между домами натянул верёвки с колокольчиками — для передачи еды и снадобий без контакта. На всех подходах к Урочищу развесил связки резко пахнущих трав — полыни, пижмы, можжевельника — как психологический и возможный физический барьер для чужаков. В его жилище закипела работа по старым рецептам. Совершал ежедневные обходы границ, взывая к духам леса о защите. Жёг ночами костры из можжевельника и шалфея, окутывая долину очищающим дымом. Не всех удалось спасти. Каждую потерянную жизнь Зорич воспринимал как личное поражение. Тех, кого не удавалось спасти, Зорич не хоронил в земле. Памятуя о стремительности и заразности Чёрного Кашля, он совершал очистительное сожжение на специальном погребальном костре, сложенном особым образом из осиновых ветвей — дерева, считающегося чистым и отпугивающим нечисть. Этот обряд был не актом жестокости, а суровой необходимостью и последней мерой защиты живых, чтобы болезнь не продолжила своё шествие по земле. Он провожал каждого словами: «Огонь, прими плоть. Ветер, развей пепел. Земля, очистись. Дух, иди к своим.» Когда эпидемия отступила, Урочище стало убежищем для горстки выживших. Зорич, поседевший за эти месяцы, продолжил свой дозор. Он понимал: его миссия не в победе над смертью, а в сохранении жизни — любой ценой. И пока в Чащерном Урочище теплился огонь в очаге, надежда для этого мира была жива.
Когда последний погребальный костер угас, а смрад смерти был окончательно вытеснен горьковатым дымом полыни и можжевельника, в Чарном Урочище воцарилась хрупкая, выстраданная тишина. Горстка выживших, спасенная ценою седины на висках Зорича и десятков безмолвных ночных дозоров, робко начала возвращаться к жизни. Они уже смотрели на него не как на чудаковатого отшельника, а как на Стража. На ту непоколебимую скалу, о которую разбилась сама Смерть. Однажды вечером, стоя на той самой поляне, где когда-то он призывал духов Исподни против браконьеров, Зорич смотрел на просыпающиеся звезды. В его памяти всплывали все те, кого он не смог спасти. Их лица, их последние хрипы, холодный пепел от их погребальных костров. Он вспомнил суровые уроки Горазда: «Сила не в мышцах, а в выдержке. Дерево гнётся, но не ломается, потому что умеет слушать ветер». И тихие наставления Радмилы: «Каждая травинка — это буква в великой книге исцеления. Надо только суметь её прочитать». Вся его жизнь — это диалог. Диалог с лесом, с духами, с болезнью, со смертью. Он не приказывал стихиям, он договаривался. Не покорял природу, а слушал её. И в этом слушании рождалась сила, перед которой отступил «Чёрный Кашель». Он не спас всех. Но он спас жизнь. Саму возможность жизни в этом Урочище. Он взял на себя тяжелейшее бремя выбора — кого изолировать, кому отдать последнюю горсть целебных кореньев, кого предать очищающему огню, чтобы спасти остальных. И тогда, в безлунную ночь, глядя на тлеющие угольки своего костра, Зорич нашел ответ на вопрос, отголосок которого преследовал его с тех пор, как он осознал тяжесть своей власти над жизнью и смертью.
«Тварь я дрожащая или право имею?»
Тишина Урочища, вся природа вокруг него, уже знала ответ. Он не был дрожащей тварью, ибо дрожащий не выстоял бы против чумы. Но он и не присвоил себе право, не вырвал его у мира силой. Это право было дано ему. Дедом, учившим слушать молчание. Бабкой, показавшей язык трав. Самим лесом, признавшим в нем своего голос и свою защиту. Право иметь — это не право брать. Это право отвечать. Отвечать за вверенный тебе клочок земли, за каждую жизнь в нем — от исполинской сосны до заблудившегося в чаще человека. Это не право на тиранию, а тяжелейшая обязанность хранителя, которую он добровольно взвалил на свои плечи.
И Зорич, Страж Чарного Урочища, сын приРоды понял это. Он не имел права распоряжаться жизнями по своей прихоти. Но он имел право — нет, был ОБЯЗАН — защищать великий Круговорот, даже если цена этой защиты — седина в волосах, шрамы на душе и вечное бремя одинокого решения. Он поднял голову. Звезды холодно сияли в черной вышине. Где-то в чаще пел свой последний перед сном напев дрозд. Воздух был чист и свеж. Природа уже знала ответ. И он тоже.
Почему современные учёные отвергают своих изначальных учителей
Оказывается, развитие науки имеет свою закономерность. Её этапы на начальном пути возглавляли те люди, которых сегодня часто определяются современными учёными как мошенники и шарлатаны. Примером служат алхимики, астрологи и знахари. Проблема в том, что на начальном пути развития науки у древних учёных не хватало знаний, поэтому многие пробелы в их знаниях заполнялись мистикой и верованиями. Так утвердились алхимики, астрологи и знахари - родоначальники наук. Но зато их учения имели огромный опыт и практику, которые можно исчислять сотнями и даже тысячами лет. Недаром сегодня существует такая страсть к тайным древним знаниям.
Мы можем рассмотреть, в чём закономерность астрологии. Почему она зарождалась в разных концах света? И почему самые древние сооружения – это прежде всего обсерватории по наблюдению за звёздами и планетами? Древние люди всегда пытались идентифицировать себя с окружающим миром: своё рождение, свою смерть, какие-то очень важные события и периоды в своей жизни, сезоны охоты, нерест рыбы, созревания плодов и семян и т.д. Самое стабильное и неизменное к чему они могли себя привязать (свою хронологию) - это звездное небо и небесные циклы. Чтобы легче запоминать созвездия люди придумали им знаки зодиака. А затем нашли закономерности в схожести характеров у рождённых людей под разными созвездиями. И это было не сиюминутное мошенничество, как считают некоторые современные учёные, а астрология развивалась на протяжении сотен и тысяч лет в разных уголках планеты, благодаря наблюдению за звездами и изучению закономерностей, связанных с человеком и природой. И на базе астрологии формировались первые календари, и развивалась сама астрономия. Я думаю у астрологии есть будущее по мере того как будет развиваться наука. На сегодняшний день астрология очень поверхностна и не может считаться наукой. Для более точных прогнозов влияния звёзд и планет на человека возможно потребуются сотни и тысячи лет дальнейшего развития науки. Пока нет возможности изучать как гравитационные векторы в разных точках орбиты планеты «Земля» влияют на формирование мозга человеческого зародыша, что закладывается в его будущих талантах и способностях. А после рождения младенца гравитационные векторы влияют и на формирование программного обеспечения в мозгу ребёнка при налаживании первых его контактов с окружающим миром, что и модулирует его будущий характер и склонности психики. Пока уровень науки не позволяет суммировать и замерять гравитационные векторы, но почувствовать, как например, влияет гравитационный вектор Луны на мировой океан, мы имеем возможность по наблюдению за приливами и отливами. Нет сомнения, что и наш мозг, состоящий из воды на 80% в какой-то мере незаметно для нас, также подвергается приливам и отливам и уже опромерчего утверждать, что от гравитации Луны мы никак не зависим.
Что касается алхимии, то на её основе появилась химия. Без алхимии химии не было бы - это обязательный период в развитии науки. Но может ли алхимия возродиться в новом мистическом качестве? Такой вариант существует, если ученые будут более углублённо изучать взаимосвязь мыслей с химическими процессами в мозгу и организме. Ну, а если мысли (пример, мысли вызывающие стрессы и приливы радости) смогут менять химию в организме (управлять процессами организма), то человек эволюционирует на следующий уровень своего развития, его организм сам начнет вырабатывать, например, нужные лекарства для самоизлечения. Такие случаи уже существуют, когда люди чудесным образом самоизлечивались от неизлечимых и смертельных болезней - организм сам себе находил и вырабатывал нужные лекарства.
Что касается знахарства, то сегодня появляется мода всё больше отказываться от лекарств на вредной химии с их побочными эффектами и использовать лекарства на органической основе, больше адаптированные под организм человека. Лекарства, полученные из растений, благодаря знахарству изучались сотни и тысячи лет, их польза доказана временем.
Нам не нужно пренебрегать опытом и знаниями наших предков, даже если мы считаем, что в плане современной науки они далёко отстали от нас в своей грамотности и культуре.
Текст составлен на размышлениях автора.
Специализация знахарей
Некоторые лекари применяли при лечении не только заговоры, но и «механические приемы» лечения, а также лекарственные травы. В этой роли народных врачевателей нередко выступали коновалы, кузнецы, пастухи, мельники, бывшие больничные служители из солдат, а также странники и странницы, которые, придя на ночевку в деревню, раздавали врачебные советы направо и налево.
Среди знахарей был особый «клан» костоправов, между которыми встречались, и довольно часто, женщины, так называемые «баушки». Они, по мнению русского народа, умели вправлять вывихи и помогали при переломах костей, накладывая повязки. Под вывихами они понимали не только собственно вывихи, но и растяжения связок, простые ушибы суставов или переломы. Они устраняли смещение и накладывали повязку или «лангету» из бересты.
При этом рекомендовалось ушибленное место смазывать особым «спиртом», которое знахари готовили по следующему рецепту:
«Взять три золотника камфары, три золотника нашатыря, полштофа спирта или пенного вина, два стручка перца и настоять в теплом месте. Когда надобно употреблять, то отлить в склянку, положить на стакан настоящего спирта ложку деревянного масла и кусок мыла величиной с грецкий орех, сначала мелко настругав, и потом хорошенько взболтать, чтобы мыло разошлось, и натирать больное место три раза в день».
При вывихах обыкновенно знахари встряхивали вывихнутую конечность, стараясь придать ей естественное положение, и растирали ушибленное место, «мыли ее», как говорят.
В большинстве же случаев костоправы, имея дело с вывихом, определяли его выражением «хребеток расшибен» и лечили, как ушиб: примочками, припарками из трав и даже заговорами. В некоторых случаях знахарь просто обещал, что кость срастется без всякой помощи, по одному его наговору.
Были также особые правильщики и правилыцицы, которые «направляли пуп», сорванный от тяжелой работы или резкого движения. Пуп правился при помощи обычного горшка. При этой операции знахарка клала больного на спину, намазывала ему живот растительным маслом, брала горшок, зажигала немного льна, бросала в горшок, который опрокидывала на живот больному. Горшок играл роль большой сухой банки.
Операция эта была очень болезненная, больной кричал от боли и требовал прекращения мучений, но горшок удавалось удалить далеко не сразу, потому что часто живот так сильно втягивался в горшок, что последний приходилось иногда разбивать. Знахарка проделывала подобную операцию несколько раз, всегда натощак, а когда лечение было окончено, давала больному выпить вина с солью или сажей.
«Накидывание» горшков делалось также для того, чтобы разогнать дурную кровь, для производства выкидыша, а у маленьких детей - от грыжи, причем горшок в последнем случае заменялся стаканом.
Так же существовали и другие способы лечения знахарями «пупных болезней». При одном из таких способов «рвут пуп пальцами»: большим и указательным пальцами захватывают складку кожи и поднимают ее, стараясь перекрутить.
Иногда щипание кожи пальцами производилось по всему животу и было не чем иным, как лечебным массажем. Употреблялось также «завертывание пупа» палкой: для этого брали коротенькую палку, середину ее клали на пупок и начинали производить круговые движения палки по животу, с целью «закрепить» сорванный пуп.
В тех случаях, когда «катает пупом»,[31] производилась операция «одергивания пупа». Больной с обнаженной спиной ложился вниз животом на лавку, а приглашенный знахарь, согнув у себя на руках по три пальца и оставив свободными остальные два, указательные клал поперек спины больного, а большими захватывал кожу на спине и сильно тянул до тех пор, пока в спине «что-то не щелкнет»: это пуп одернулся с того места, на котором ему быть не следует, и попал опять на свое.
Когда болела шея и нельзя было повернуть голову, бабка говорила, что она (шея) «развилась». Для лечения недуга больного брали за голову обеими руками, поворачивали ее в разные стороны, приказывая расслабить шею, и вдруг производили такое резкое «повертывание», что, по словам больных, у них «трещала шея».
При болях в спине «баушки» также говорили, что она «развилась», и велели больному сложить руки, как мертвому, лечь вверх спиной и надавливали на спину ногой.
Еще одной «разновидностью» знахарей были рудометы и рудометки. Из них одни открывали кровь «жильную», другие «кидали, метали и бросали» кровь «баночную или роговую»[32] Рудометы учились своему искусству в семье, они были потомственными лекарями и секреты передавали от отца к сыну. Метали кровь и женщины, но преимущественно пожилые.
Когда больному необходимо было пустить кровь, он призывал такого знахаря или ворожею и говорил: «Выпусти ты мне, кормилец, Бога ради, дурную кровь, много ее накопилось, тяжело стало!» - «Верно, верно, - отвечал знахарь, - много у тебя дурной крови, давно надо выпустить. Беда, когда накопится много крови: тяжко человеку».
Это убеждение, что может быть тяжко человеку от крови, заставляло некоторых «кидание крови» повторять ежегодно, обыкновенно весной, а то и несколько раз в год. «Как худую кровь выпущу, - объяснял крестьянин, - опять человеком сделаюсь, сколько хошь работай. Да ты посмотри-ка, какая она черная, как деготь, худая. Вон ее надоть пускать, потому она только тяжелит человека».
При «кидании крови» знахарь перочинным ножом или старой бритвой делал на спине, возле лопатки, продольный разрез, настолько глубокий, чтобы кровь шла струей, и выпускал ее - приблизительно с чайную чашку. Когда, по мнению знахаря, дурная кровь вся вышла, он прикладывал к ране тряпку, намоченную в холодной воде. Если кровь не шла струей, а только едва сочилась, знахарь ее высасывал и сплевывал. В некоторых местах пускали кровь из «соколка»[33]
Чаще всего кровь пускали «рожками». Для этого брался коровий рог, широкий конец которого ровно обрезан, чтобы плотно прилегал к спине, а на узком конце сделана небольшая дырочка, закрывающаяся снаружи клапаном. Знахарь, сделав на спине небольшой разрез, накрывал его широким концом рожка, а через узкий вытягивал воздух: рожок закрывался клапаном и наполнялся кровью.
Особые специалисты лечили глухоту и вытягивали серу из ушей.
Промыв уши водой, они клали в них маленькие кусочки камфары, завернутые в вату или тоненькую тряпочку, с листиками душистой герани. Потом, свернув из кусочка бумаги, пропитанной воском, трубочку, вставляли один конец в ухо, а другой зажигали. Операция эта считалась самой действенной против глухоты: вся сера, которая закладывает уши, даже если она копилась годами, «выгорит» или ее вытянет огнем на бумагу.
Особые специалистки-трихи, которых мы бы сейчас назвали массажистками, или парильщицы, занимались исключительно растиранием больных в пару, то есть в печах и банях. Натирали они больных редькой, деревянным маслом, керосином, вином, красным медом, а затем парили продолжительное время. Свои манипуляции они нередко сопровождали произнесением молитв и заговоров, а некоторые из них усиленно при этом втягивали в себя воздух: вдыхая и уничтожая тем самым болезнь.
Некоторые из трих при поносе у детей правили «пердячью» (копчиковую) косточку. В соответствии с представлением, что некоторые виды детских поносов развиваются от свертывания копчиковой кости наружу, такие трихи, намылив палец и введя в задний проход ребенка, производили поглаживающие движения, надавливая и выгибая изнутри эту косточку.
Подобные же специалистки «ломали глаз» при «переломе» (язвах роговицы), то есть растирали через закрытые веки глазное яблоко. Особого рода треск, который слышали больные при этой манипуляции в глазу, очевидно, и дал повод назвать это применение глазного массажа «ломанием глаза».
Такие же специалистки, при попадании инородных тел в глаза, часто случавшемся во время молотьбы и веянии хлеба, доставали соринку руками или вылизывали ее языком. Лизание языком пускалось ими в ход и при других глазных болезнях, а иногда и при нарывах.
Вместе с тем практически все знахари могли дать полезный совет при обращении к ним «пациентов» с вопросами о легких болезнях - например головной боли или бессоннице.
От таких болячек существовали следующие рецепты.
«Средство от бессонницы. Иногда после продолжительной болезни, при выздоровлении, даже у здоровых людей бывает бессонница, в таком случае, ложась спать, должно съесть ложку или две столовых сотового меда, то есть свежего, еще не перетопленного; есть его можно с белым хлебом и запивать чаем.
Лекарства от головной боли. Если чувствуешь головную боль с сильным жаром, накроши ржаного хлеба, смочи его уксусом; искроши кудрявой мяты помельче, положи в хлеб, сотри хорошенько ложкой, намажь на платок толщиной в палец, привяжи к голове, когда хлеб высохнет, снова намочи его уксусом. От этого простого средства скоро проходит сильная головная боль.
Очень полезно также пить через час по столовой ложке мятную воду и мочить ею лоб, виски и темя. Мятную воду приготовляют посредством перегонки.
В обмороках должно тереть виски и лоб одеколоном и уксусом; давать нюхать спирт, простой уксус или тертый хрен.
Средство предотвратить простуду. Невзирая на осторожность, иногда случается промочить ноги, или сам промокнешь, в таком случае необходимо взять надлежащие меры против простуды, чтобы впоследствии не сделаться больным горячкой или лихорадкой.
Должно мокрое платье снять, ноги вытереть фланелью или шерстяным чулком, а потом теплым вином; напиться чего-нибудь теплого, липового цвета, бузины или малины и, ложась спать, опять вытереться фланелью и теплым вином.
Иногда промочишь ноги и последствий никаких не бывает, а часто также платят за неосторожность жизнью».
«Повседневная жизнь колдунов и знахарей в России XVIII-XIX веков», Наталия Валентиновна Будур, 2008г.
Расправы над ведьмами и колдунами
Надо сказать, что русский человек терпел колдуна и был к нему снисходителен до поры до времени. Внешнее почтение к колдунам часто сменялось лютой ненавистью, когда в селе думали, что именно чародей причинил жителям несчастье и навел на них порчу. В таком случае толпа разгневанных крестьян могла не только избить до полусмерти ведьмака, но и даже убить его. Причем случались подобные расправы даже в совсем недавнее (по меркам истории) время.
Так, в «Новом времени» (1895. № 7036) рассказывается о следующем факте народной расправы с колдуньей, имевшем место 25 сентября 1895 года в Москве в самом центре города - на Никольской улице:
«Одна из наиболее чтимых московских святынь - часовня Святого Пантелеймона на Никольской. В ней и около нее всегда толпа. По ночам часовня заперта, но ранним утром, далеко до рассвета, в ней служится молебен; затем чудотворная икона вывозится в город для служения молебнов в частных домах. Тогда в часовню собирается особенно много народа - все больше мещан и крестьян. Так было и в ночь 25 сентября. Часовня еще не была отперта, а около нее уже толпилось человек триста. Между ними находились крестьянский мальчик Василий Алексеев и какая-то простая женщина, одержимая припадками - не то истерического, не то эпилептического свойства. Возле этой пары стояла крестьянка Наталья Новикова; она разговорилась с мальчиком и подарила ему яблоко… Мальчик куснул яблоко, и надо же быть такому несчастью, чтобы как раз вслед за тем с ним сделался истерический припадок. На крик Алексеева прибежал с ближайшего поста городовой и отвез больного в приемный покой. Толпа, конечно, всполошилась:
- Отчего был крик? В чем дело?
Наталья Новикова и женщина, сопровождавшая Алексеева, вероятно, успели тем временем повздорить, потому что вторая из них принялась объяснять народу происшедший случай таким ехидным образом:
- Мальчика испортила вот эта баба. Дала ему яблока, а яблоко-то было наговорное. Едва он закусил яблоко - как закричит! и почал выкликать…
Суеверная сплетка быстро обошла толпу и подчинила ее себе. На Новикову глядят со страхом и ненавистью. Слышны голоса:
- Ведьма!
- Мальца заколдовала!
- Пришибить - и греха не будет…
На Новикову начинают нажимать; она струсила и решила лучше уйти подальше от греха: народ - зверь, с ним не сговоришь. Пока она пробиралась к Проломным воротам, толпа рычала, но не кусалась; со всех сторон ругательства, отовсюду свирепые взгляды, но ни у кого не хватает мужества перейти от угроз к действию… В это время кто-то громко и отчаянно крикнул:
- Братцы… бей колдунью!
И в ту же минуту Новикова была сбита с ног и десятки рук принялись молотить по ней кулаками… Молотили с яростью, слепо, не жалея, насмерть… И, не случись на Никольской в ту пору опозднившегося прохожего, чиновника Л. Б. Неймана, Новиковой не подняться бы живой из-под града ударов. Господин Нейман бросился в толпу:
- Что вы делаете?! С ума сошли?!
- Бей колдунью!
- Этот - что тут еще?!
- Вишь, заступается…
- Заступается? Видно, сам из таких… бей и его!
- Уйди, барин! Не место тебе здесь… Наше дело, не господское…
- Бей! бей! бей!..
Господин Нейман, обороняясь, как мог, протискался, однако, к Китайскому проезду, где подоспел к нему городовой, чтобы принять полуживую Новикову: она оказалась страшно обезображенной, защитника ее тоже, выражаясь московским жаргоном, отделали под орех…
И над сценой этой средневековой расправы ярко сиял электрический фонарь великолепной аптеки Феррейна, и повезли изувеченную Новикову в больницу мимо великолепного Политехнического музея, в аудитории которого еженедельно возвещается почтеннейшей публике то о новом способе управлять воздухоплаванием, то о таинствах гипнотизма, то о последних чудесах эдисоновой электротехники. И когда привезли Новикову в больницу, то, вероятно, по телефону, этому чудесному изобретению конца XIX века, дали знать в дом обер-полицмейстера, что вот-де в приемном покое такого-то полицейского дома лежит женщина, избитая в конце века XIX по всем правилам начала века XVI…
А вот еще один случай народной расправы с колдуном-упырем, взятый из «Киевской старины» (1890. Т. XXVIII). Случилось это во время ужасной чумы в 1770 году в селе Войтовке. Какие ни принимались меры - ничего не помогало, люди продолжали умирать. И крестьяне тогда решили, что по селу что-то ходит, отворяет окна и «надыхуе» чрез них в хаты, отчего народу мрет больше, чем бы мерло без этого.
Поскольку объяснение моровому поветрию было найдено - теперь оставалось только найти конкретного виновника народного бедствия. И вскоре на сельском сходе было заявлено некоторыми из присутствовавших, что они видели ходящего по селу упыря, что на упыря этого с остервенением нападали собаки, а скот при виде его стремительно убегал. Якобы даже видели, во что был одет упырь: он был в белой рубахе и синих суконных штанах, от колен замотанных белым сукном.
А в таком одеянии, как всем было известно, ходил обыкновенно приходский войтовский поп, отец Василий. Тогда у всех явилось подозрение, что ходит по селу по ночам не кто иной, как поп. Обратились с вопросом об этом к самому батюшке, но он категорически отрицал возводимое на него обвинение. Тогда спросили попадью, ходит ли батюшка ночью по селу, и она тотчас заявила, что ходит и что у него бывает по ночам его уже умершая сестра вместе с другими мертвецами, причем все они толкутся с шумом по комнате и «клацают ртами, как будто что едят».
Тогда мужики устроили очную ставку попадьи с попом, ее мужем, требуя, чтобы она сказанное ею повторила в его присутствии. Она повторила, добавив: «Не запирайся, попе, бо сама правда, що ты ходишь по селу в ночи». Это подтвердила и попова кухарка. После этого участь попа была решена.
Тринадцать человек, выбранные сходом, сперва пошли и выкопали на кладбище яму, а затем явились к попу и в то время, как он вышел из приходского дома, кинулись на него и стали бить кольями. Избив его до полусмерти, достали носилки, положили его на них и отнесли к выкопанной яме. Там, пробив его осиновым колом от плеча к плечу «навылет», бросили в яму и, не слушая мольбы попа, заживо закидали его землей.
Поветрие после этого, по показаниям участвовавших в убийстве, затихло, хотя и не совсем. На суд попал только один участник убийства, 26-летний крестьянин села Войтовки Деско Ковбасюк, остальные умерли от поветрия. Кодненская военно-судная комиссия отпустила его без наказания.
В той же «Киевской старине» рассказывается и о другом случае, имевшем место 6 июля 1727 года в городе Решетиловке Полтавской губернии.
Именно в этот день в городок явился некий Таврило Мовчаненко, уроженец села Стасовец, и объявил себя упырем. Он объяснил жителям, что дождя в Решетиловке, страдавшей от засухи, нет потому, что там много ведьм. Народ привел его в ратушу и потребовал от сотника, чтобы тот всякого или всякую, кого упырь объявит ведьминским отродьем, велел топить в воде.
Хотя сотник и не разрешил топить ведьм, но, «невозмогши народ уняти» и «уступая принуждению» толпы, велел при всем народе допросить упыря. На этом допросе упырь показал: родом он из села Стасовец, волшебству учился в Зенькове у Ивана Голи-Постолы, живущего близ Гордня Тягни-шкуры. Наука волшебства состояла в мазанье под плечами «неким зельем». В Зенькове он находился три года и знает там трех ведьм, с которыми вместе волшебствовал. В Решетиловке он указал на четырех ведьм.
Показания упыря произвели сильное волнение в народе, и сотник, боясь бунта и угроз, что его самого убьют, если он не даст приказа утопить указанных ведьм, донес обо всем происходящем полтавскому наказному полковнику.
Для унятия бунта была выслана из Полтавы помощь. Упырь и четыре решетиловские жительницы, объявленные им ведьмами, были доставлены в Полтаву для допроса.
При допросе Мовчаненко назвал себя волшебником и на очной ставке с Марией Пещанской, Марией Пустоваровой, Мотрей Гуринкой и вдовой Ефимией Сорочихой показал, что все они ведьмы, что Пустоварова ночью, сделав его конем, ездила на нем и погоняла его коленом, что Иван Голи-Постолы, зеньков-ский житель, природный колдун, передал ему свое знание, и с того времени ведьмы ездят на нем в Киев на Лысую гору.
Обвиняемые ведьмы показали, что ничего про то не ведают. Когда же упырь был спрошен вновь - на этот раз под «батожным боем», - то сознался, что «в безумии опорочил» этих жен и что в «новомесяч припадает ему в голове замешанье», вследствие которого три раза он был близок к смерти.
Полтавский полковой суд, узнавши «явную его, Мовчаненко, плутню и обману», приговорил опороченных жен освободить «с под караулу и отпустить их в домы их по-прежнему, о чем, всему урадово-решетиловскому товариству и посполитству и кому того ведати надлежит объявить дабы всяк, ведая о таковом вымышленного обманщика и неполного ума человека потворе, впредь оному и подобным ему лживцам весьма не доверял».
«Повседневная жизнь колдунов и знахарей в России XVIII-XIX веков», Наталия Валентиновна Будур, 2008г.
Знахарство
Слушаю титры с Ютуба:
- Руслан постарайся бросить курить, лёгкие очищаются от продуктов курения 12-18 месяцев примерно и не так много природных методов для оздоровления очистки лёгких для примера напиток из куркумы.
- Лёгкие вообще потом уже не очищаются. Ну как бы вычищать из них какая-то часть. Но в основном всё что ты накурил оно там уж навсегда будет. Я же курение бросал тоже на практически 10 лет и через полгода эффект заметен, но большая смол во мне остались. Советуют делать напиток из лаврового листа с медом…
Люблю знахарство: таблетки и уколы – скучно. А вот всякие настои, отвары, смеси. Бывает люди даже лекарства пить забывают, а тут надо еще набурдомесить зелье, иногда рецепт из десятка компонентов состоит.
Курить просто: щелк ко пачке пальцем, щелк зажигалкой, а чтобы легкие чистить надо вырвиглазную жидкость варить и пить. Причем регулярно.