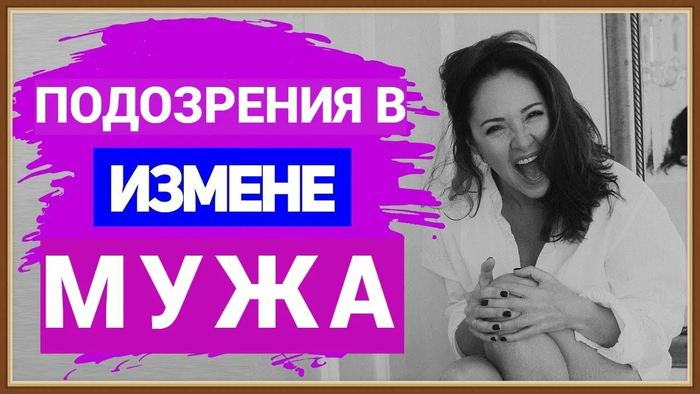Променяла мужа на свои подозрения
Светлана в сотый раз набирала номер. Тишина в трубке была громче любого крика. Пять часов. Самолёт из Питера сел пять часов назад. А Максим — растворился. Как будто его и не было.
В голове — карусель: его бывшая Алена, их старые фото, его скучные сообщения в последнюю неделю. «Конечно, — шептала она, глядя в тёмное окно, где отражалось её бледное лицо. — Всё логично. Всё на своих местах».
А в это время...
Максим выбрался из такси, и мир поплыл. Ноги стали ватными, в висках — тупой, навязчивый стук. Две недели в Питере, аврал, бессонные ночи — и вот оно, расплата. Сейчас бы домой. В кровать. В тишину.
Но тишина в их доме была особой. Она давила.
— Главное — не показывать вида, — бубнил он себе под нос, бросая взгляд на подъезд. — Иначе начнётся... опять.
Он знал сценарий наизусть. Его усталость — отговорка. Его бледность — вина. Его молчание — доказательство. Проще было играть роль «нормального», даже если мир заваливался на бок.
В лифте стало совсем плохо. Тошнота подкатила комком к горлу, стены поплыли. Он прислонился к зеркалу, оставив на нём влажный след. «Держись, — командовал он себе. — Ещё немного».
Дверь открылась с третьей попытки — пальцы не слушались, ключ выскальзывал.
В квартире пахло кофе и... напряжением. Густым, как сироп.
— Свет? — хрипло позвал он, скидывая куртку прямо на пол.
Из спальни вышла она. Не бросилась на шею. Не спросила «как полёт?». Стояла на пороге, сложив руки на груди. Статуя Справедливости, высеченная из льда.
— Ну что, праздник удался? — голос был ровным, без единой трещинки. От этого становилось ещё страшнее.
— Свет, мне плохо, — выдохнул он, чувствуя, как пол уходит из-под ног. — В самолёте... голова... Телефон сел...
— Ага, — она усмехнулась, коротко, беззвучно. — Удобно. Телефон «сел». Классика.
Он видел, как она смотрит на него. Не на мужа, который еле стоит. На подсудимого. В её глазах уже был готовый вердикт: «Виновен. Измена. Приговор — моё презрение».
— Я лягу, — простонал он и поплёлся к их спальне, цепляясь за стену.
— Стой! — её голос хлопнул, как выстрел. — Не в нашу. В кабинет. Или на кухню. Куда угодно.
Это был не крик. Это был приказ. Окончательный и бесповоротный.
Он развернулся. Не спорил. Что спорить с глухой стеной? Доплёлся до маленького дивана в кабинете — том самом, где когда-то мечтал о своём деле, — и рухнул на него, как подкошенный. Мир сузился до пульсации в висках и тяжёлого, предательского тепла, разливающегося по всему телу.
Утро пришло с огнём.
Его разбудил жар — липкий, всепроникающий. Температура зашкаливала, тело ломало, в голове стоял густой туман. Он слышал, как Светлана ходит по квартире. Звон посуды. Шёпот телевизора. Шаги мимо двери. Она не зашла. Не постучала. Её равнодушие было страшнее любой истерики.
Именно тогда, в этой липкой яме отчаяния, в памяти всплыло лицо. Ирина. Главный инженер с питерского проекта. Жёсткая, резкая, но... честная. Он помнил её слова, брошенные как-то вскользь: «Если прижмёт — звоните. Я тут всех врачей знаю».
Спасательный круг
Собрав последние силы, он дополз до стационарного телефона в прихожей. Цифры плыли перед глазами.
— Ирина... — его голос звучал как скрип ржавой двери. — Это Максим... Мне плохо. Жена... Я один.
В трубке — секундная пауза. Не удивление. Решение.
— Адрес. Сейчас. Не двигаться.
Она приехала за пятнадцать. Не одна. С ней был врач — пожилой мужчина с внимательными глазами. Они вошли, не стучась. Ирина одним взглядом оценила обстановку: скомканная куртка на полу, он — бледный, в поту, на узком диване.
Врач наклонился, что-то спросил, приложил ладонь ко лбу.
— Вирусная пневмония, на грани осложнений, — отчеканил он, обращаясь больше к Ирине, чем к нему. — В клинику. Сейчас.
И тут из спальни вышла Она. Светлана. Не в халате — в нарядном домашнем костюме. Как на парад.
— Интересно, — её голос был сладким, как сироп с цианидом. — А это кто у нас? Уже и на дом вызывают?
Ирина медленно повернулась. Не повышая голоса, чётко, как доклад на совещании:
— Это врач. Вашему мужу требуется срочная госпитализация. Если вам не трудно — отойдите и не мешайте.
Взгляд их столкнулся — лёд и сталь. Светлана сжала губы, отступила на шаг. Не от страха. От оскорблённого величия.
Клиника стала убежищем.
Тишина. Не давящая, а лечебная. Белые стены, стерильный запах, равномерный шум аппаратуры. Никаких подозрительных взглядов. Никаких допросов. Его просто лечили.
Ирина навещала каждый день. Сначала — как коллега. Приносила отчёты, журналы. Потом — как человек. Фрукты. Книгу, которую он как-то упоминал.
— Почему терпел? — спросила она однажды прямо, глядя, как он пьёт воду.
Он отложил стакан, смотря в стену.
— Думал... это я. Что я делаю что-то не так. Что надо стараться больше. Любить сильнее. Молчать дольше.
Он впервые озвучил это вслух. И понял — это была тюрьма, а он сам был и заключённым, и надзирателем.
Когда пришло время выписки, вопрос повис в воздухе. Куда?
— Поживи у меня, — сказала Ирина, глядя в окно. — Комната свободна. Отоспишься. Решишь, что дальше.
Не предложение. Констатация. В её голосе не было ни жалости, ни намёка. Была просто практичность. И в этой практичности было больше человечности, чем во всех её сценах со Светой.
Её дом был другим
Пахло книгами и кофе. Не было идеального порядка, но был порядок душевный. Она не лезла в душу, но всегда слышала. Не требовала отчёта за каждый час, но всегда знала, когда нужно просто молча поставить кружку чая рядом.
Силы возвращались. Не только физические. Возвращалось чувство, что он имеет право. Право уставать. Право болеть. Право молчать. Право быть собой — не идеальным, просто живым.
Через две недели он поехал «домой». Слово теперь вызывало горькую усмешку.
Эпилог
Светлана открыла дверь. На лице — не тревога, не вопрос. Готовый спектакль. Она уже подала на развод. В прихожей стояла коробка с его вещами — та самая, символическая, как в плохом фильме.
— Забирай своё и исчезай. К своей... инженерше, — выплюнула она слово.
Максим молчал. Слушал этот поток, этот водопад её правды. И внутри не было ни боли, ни злости. Была пустота. Большая, чистая, как степь после пожара.
— Света, — перебил он её ровно, без эмоций. — Это моя квартира. Первый взнос, ипотека — всё моё. Завтра собери свои вещи и съезжай.
Она замерла. Впервые за много лет он говорил, а она слушала. Не его оправдания — его решения. В его спокойствии было что-то необратимое. Как щелчок замка.
Он наклонился, взял ту самую коробку — эту картонную пародию на его жизнь, — вышел на лестничную площадку и бросил её в мусоросборник. Не оглядываясь.
Потом вернулся, взял со стола папку с документами на квартиру. И ушёл. Навсегда.
Внизу, у подъезда, у брусчатки стояла Ирина. В своей машине. Не спрашивала «как прошло?». Не требовала отчёта.
— Суп сварила, — сказала она, когда он сел рядом. — Домашний. Греет.
И он понял. Дом — это не место. Это ощущение. Это когда тебя ждут не с допросом, а с тарелкой супа. Не для того, чтобы судить, а чтобы просто быть рядом.
Судьба не свернула его к бывшей. Она свернула его к будущему. К той, что спасла не просто тело — спасла его самого. От тюрьмы под названием «любовь». Иногда самый удачный поворот начинается там, где заканчивается дорога. Главное — найти в себе силы свернуть. И поехать дальше.