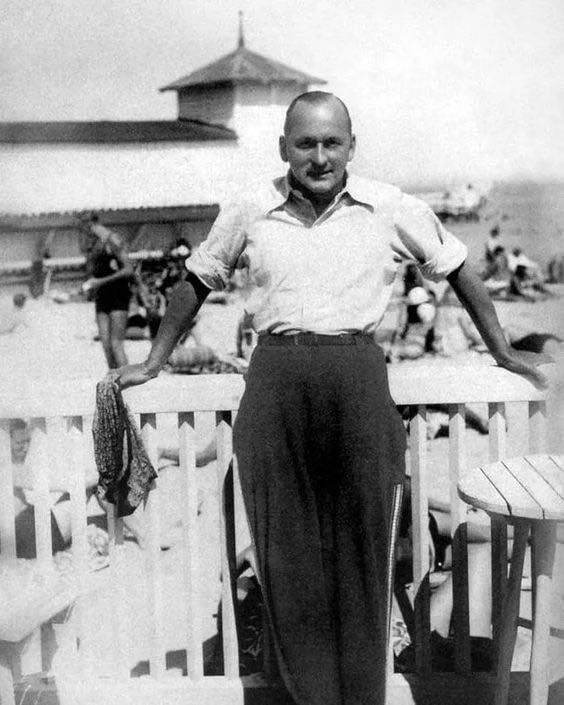Шёпот патефона в снежном городе
Квартира Григория дышала тишиной. Не той благородной тишиной библиотек, а густой, вязкой, как забродивший кисель. Единственным её свидетелем был фикус на кухонном окне — темный, неподвижный, поглощавший скудный зимний свет всей поверхностью своих глянцевых листьев. Григорий снял тяжелые валенки, оставив на полу два мокрых слепка тоски, и прошёл в комнату. Пальто, пропитанное запахом снега и городской загазованности, повесило само себя на вешалку, выдохнув облачко холода.
«Плюш, я дома», — сказал он в пустоту, где у кресла уже семь месяцев не скреблась лапа и не звенел от нетерпения ошейник. Ответом была лишь густая тишина, да легкий хруст отпавшего с подола пальто налипшего снега.
Работа дворника — это медитация под скрежет лопаты и метлы. Целый день Григорий счищал снег, наблюдая, как ноги прохожих, обутые в разное настроение, топчут его труд. Он видел, как молодая женщина у рояльного подъезда музыкального училища что-то долго искала в сумке, а потом, уронила из неё на снег ключи и апельсин. Затем, как мужчина в дорогом меховом пальто на перекрёстке бульвара плакал, не стыдясь, а слезы замерзали у него на щеках бриллиантовыми путями. После, приметил голубя, пытающегося клевать тень от карниза, приняв ее за крошки.
«Видел я сегодня одного голубя, Плюш, — начал Григорий, заводя старый патефон. Игла коснулась винила с легким шипением, как прикосновение к обожженной губе. — Совсем с ума сошел одинокий голубок, тень клевал…»
Из рупора поплыл хрипловатый, бархатный голос, знакомый до боли, до щемления в висках.
«Ваши пальцы пахнут ладаном, и в ресницах спит печаль…»
Григорий вздрогнул. У женщины возле подъезда, у той самой, пальцы в тонких кожаных перчатках и от неё действительно пахло… чем? Не ладаном, конечно. Духами, но запах был тяжелый, сладковатый. Совпадение. Просто совпадение.
«А еще, Плюш, мужчина один плакал, — продолжал он разговор с несуществующей собакой, наливая в стакан холодный чай. — Прямо на углу бульвара человек богатый плакал. Деньги есть, а плакал».
Патефон, будто подхватывая нить, запел с новой силой:
«Я сегодня смеюсь над собой, над тоской своей безысходной…»
Григорий замер. Стакан застыл на полпути к губам. Безысходная тоска — это именно то, что читалось на лице того человека. Не горе, не злость, а именно та белая, бездонная тоска, которую Григорий знал как свои пять пальцев. Он прислушался. Шипение иглы стало похоже на шуршание метлы по асфальту, на шепот снежинок.
Он стал вспоминать день, торопливо, с жадностью, а патефон, будто читая его мысли, комментировал:
Вспомнил апельсин в снегу — «Маленький креольчик выронил манго…» (Ну да, манго, апельсин — фрукт!)
Вспомнил, как гнался за бумажкой, уносимой ветром, — «Бумажный листок, гонимый метелью…»
Вспомнил скрип валенок случайной старушки — «И чьи-то шаги, все ближе, ближе…»
Это было не просто совпадение - это был диалог. Город за окном, его сегодняшний, промороженный, реальный день оказался плоским оттиском старой, потрескавшейся пластинки. Вертинский не пел про прошлое. Он транслировал в настоящее. Настоящее Григория.
Реальность заколебалась, как мираж в отражении льда. Стены комнаты становились то прозрачными, то вновь плотными. Фикус на кухне шелестел листьями, хотя дуновение сквозняка не прилетало из закрытой форточки. Григорий встал. Он больше не чувствовал усталости. В нём закипела странная, ледяная решимость.
«Он здесь, Плюш, — сказал он в пустоту. — Вертинский заблудился. В нашем времени, в нашем снегу. Его нужно найти».
Григорий набросил пальто и уже не чувствовал его тяжести. Свистнул несуществующему псу: «Пошли, ищем!». В ответ, почудился радостный взвизг где-то у ног и знакомый топот когтей по линолеуму.
Ночь была синей и звонкой. Фонари растягивали тени до невозможных размеров. Григорий шёл по опустевшим улицам, и с ним рядом, то отставая, то забегая вперед, бежала коренастая тень с виляющим хвостом. Он шептал в морозный воздух: «Александр Николаевич?» — и вслушивался.
Из темноты подворотни донеслось: «Где-то далеко, в Сан-Франциско, на последнем, на плохом причале…», - чья-то пьяная песня.
Из окна кафе пахнуло кофе и прозвучало: «В синем и далеком океане…», - но это был просто шум радио.
Он искал ключ. Звук, который не принадлежал двадцать первому веку. Скрип не снега, а полозьев настоящих саней. Запах не бензина, а пива и парижских духов. Тень с высоким цилиндром.
Он вышел на пустынную набережную. Озеро, скованное льдом и припорошенное снегом, лежало как огромная, забытая Вертинским грампластинка. Луна была яркой иглой. И тут ветер донес, почти, как из патефона, будто из самой сердцевины ночи, ясный, усталый голос:
«Что ж, одиноко бреду я по городу, что когда-то любил и знал…»
Григорий замер. Рядом с ним, у парапета, стоял высокий силуэт в шляпе. Не призрак, нет. Скорее, сгусток ночи, тень от несуществующего фонаря, отбрасываемая из 1937 года. Силуэт, был окутан дымкой и морозным паром.
«Я видел вашего голубя сегодня, Александр Николаевич, — сказал Григорий, не чувствуя безумия этого момента. — И того... креольчика, и бумажный листок... Вы здесь, но как?».
Силуэт повернул к нему лицо, на котором виднелись лишь блики лунного света на воображаемых скулах.
«Всё в мире случается, мой друг, — проговорил, почти пропел, голос, который был ветром в проводах и скрипом фонарного крепления. — Особенно одиночество. Оно вне времени. Я пел про него тогда. Ты живешь в нём сейчас. Мы встретились на перекрестке этих двух нот».
«Моя собака…» — начал Григорий.
«Рядом, — мягко оборвал голос. — Там, где настоящая тоска, всегда есть кто-то, кого нет. Это и есть вечная пара. Бродяга и его тень. Патефон и тишина после последней песни».
Силуэт стал таять, растворяться в синей ночи, как последний аккорд в эфире.
«Не ищи меня. Слушай. И подметай свой снег. В каждом счищенном сугробе — новая бороздка для старой песни».
Григорий стоял один. Рядом у ног молчала тень. Он вдруг понял, что не хочет, чтобы этот диалог кончился и голос умолк. Боялся, что Плюш станет просто памятью.
Григорий вернулся домой под утро. Фикус на окне красовался тёмным пятном на фоне медленно светлеющего неба. Хозяин квартиры не стал раздеваться, а сразу подошел к патефону. Игла уперлась в центр уже давно замолкшей пластинки, он осторожно переставил её на начало. И в тот же миг в коридоре за дверью послышался визг.
Григорий открыл её и обнаружил на пороге продрогшего вислоухого щенка.