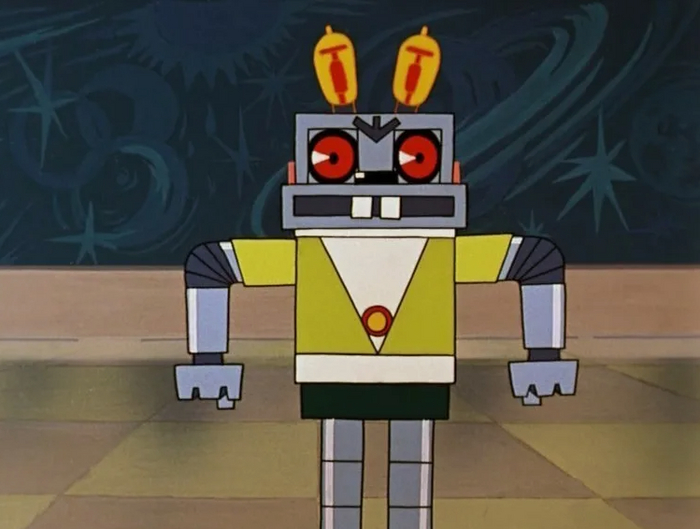Даже рассвет не остановил пиршества нечисти.
Ушкан, который только подвывал, глядя, как сужается круг около дерева, вдруг плюхнулся на брюхо и подполз к Ешке. Зарыдал, взмолился:
- Прости, не губи!.. Наняли моего дядьку разогнать язычников с их сборища! А отец должен дядьке за коней! Вот и отправил меня в счёт долга!
Ешкины глаза сверкнули ещё жарче.
Но нежить остановилась в паре шагов от дерева. Ешка даже дышать перестала от ярости. Почему твари медлят? Вот он -- предатель и насильник! Хватайте, кормитесь!
А потом поняла: она повязана с погубителем своей же кровью. Теперь Маре что сама Ешка, что хитник её девочисти -- оба едины.
Как только лучи солнца проникли в лес, твари поплелись в чащу погуще -- отсыпаться. Не скоро они покинут место, где пировали, а может, и вообще не уйдут. Будут поджидать новую еду: и честной народ, и крестоверцев. Им всё равно.
Ешка поднялась и -- как была, голяком, -- двинулась за нежитью. На обидчика даже не глянула. Оставила на суд его Бога-на-Кресте. И против своего Рода.
Ушкан этому несказанно обрадовался и кинулся было прочь, но остановился. А как же мешки и сумы с добром? У дяди, поди, и денежка водилась... Да и его топорик не помешает.
Но только пристроился потрошить чужое, как услышал тонкий высокий вой. Что такое? На волчий не похоже. Может, див, про которого отец сказывал? Поднял глаза: перед ним стояло лесное страшилище! Ростом взрослому мужику по колено, одноглазое, с отвисшей губой. Руки до земли, уд как стручок, а ноги кривей оглобли. Тьфу, срамота, мерзость!
Ушкан швырнул в уродца топор.
И тут же всё помутилось перед глазами от свирепой боли.
Ай! На Боли-бошку [дух, вызывающий страшную головную боль] нарвался! Всё, конец ему, Ушкану! Старики говорили, что если Боли-бошка привяжется, то не отстанет, пока не изведёт человека. Или сам хворый на себя руки не наложит.
Ушкан, схватившись за голову, которую словно тьма змей разом жалили, заметался меж сосен. Всё бросил, помчался вслед за девкой, которая, видно, его так наказала за насилие.
Догнал, дёрнул за хрупкие плечи, развернул малую и бросился на колени перед ней:
Увидев пустые, отстранённые девкины глаза, точно она сама нежить, завыл так, чтобы голоса Боли-бошки не стало слышно, уткнулся головой в землю.
Девка, словно во сне, пошла себе дальше, а Ушкан двинулся за ней на четвереньках, как пёс.
Ешка сначала как будто ничего не видела и не слышала, но потом обратила внимание, что земля под ступнями превратилась в чёрную сыпучую пыль, а вокруг не деревья, а обугленные стволы. Только поодаль, по обе стороны широкой тропы -- и сани, и телега проедут - стояли осины, обвязанные выцветшими лентами.
Дорога в урочище Мары! Но ей на неё нельзя ступать. Эта дорога для людей... Для стариков, которые по своей воле отправляются в Марин дом, чтобы принять там смерть. Ею когда-то привезли бабку Шушару.
Но привычной горечи при мыслях о той, что качала ей зыбку, Ешка не почувствовала. Только желание -- узнать, кто теперь она и что сделать, чтобы отомстить. Кому? Да всему миру, из которого она была вырвана людским злодейством и непотребством.
Ешка так и пошла вперёд, продираясь через мёртвые ветки, с силой вытягивая ступни из похожей на золу земли без единой травинки.
Позади кто-то залился диким воем. Ешка даже не вздрогнула. Зверь ей не страшен. А одна нежить другую не тронет. И вдруг в этом завывании она различила слова:
- Прости-и-и! Не броса-а-ай!
Ешка обернулась. Вот чуяла, что нельзя этого делать на Мариной земле, и всё об обычаях знала, но отчего-то поступила поперёк...
Меж остовами деревьев, перемазанная чёрным, оцарапанная до крови, с мордой, покрытой насекомыми, металась какая-то тварь -- не то собака, не то человек на четвереньках. Точно, человек...
И вдруг Ешка ощутила голод.
Рот наполнился едкой слюной, живот скрутили спазмы. Только чужая жизнь сможет успокоить запылавшее нутро!
А человек, пуская сопли, вдруг уткнулся в землю, стал загребать прах, сыпать его обеими руками на голову, словно стремясь зарыть её, спрятать от чего-то. Его спина, еле прикрытая разодранной рубахой, всё время вздрагивала, как от невидимого прута.
Ешка заметила поодаль уродца на кривых ножонках и улыбнулась: всем нужно кормиться. Ну, охоч Боли-бошка до мозгов, так что уж... Она не коснётся чужой пищи. Тем паче той, которая принадлежит дневной твари.
И тут Ешку словно иглой прошило: этот потерявший разум человек - её насильник! Что ж он не просит милости у своего крестового бога? Ради которого поглумился над ней, древним обрядом и всем Ешкиным Родом!
Пока она размышляла, предоставить ли судьбу разбойника лесному уродцу или самой расправиться, сыпучая земля словно закипела.
Из неё показались кости -- множество рук высовывалось из чёрного праха. На них уже не было плоти, но в движениях чувствовалась какая-то сила... или жажда -- схватить, утянуть туда, где живых не бывает.
Ешка замялась: неясно, чего от неё хотят обитатели Мариного урочища. Должна ли она остаться здесь ещё одной горсткой мёртвой земли? Потерять человеческий облик, обратиться в злобного духа? Или ей буден дан другой урок [устар. наказ]?
В лодыжку вцепились жёлтые кости с тёмными кривыми ногтями. Ешка не воспротивилась, только подняла голову к серому небу с белым пятном вместо солнца. Попрощаться, что ли...
Когда же она, ожидая своего конца, опустила взгляд, то её уже никто не держал. Зато перед ней оказалась сама смерть -- сгнившие до кости останки человека в рубище, с седыми волосами на черепе. Только в глазницах клубился, точно туча, пересыпался чёрный песок. Челюсти с двумя торчавшими кривыми клыками не дрогнули, остались недвижны, но послышался голос:
- Что мне делать? - задала вопрос Ешка и вдруг ощутила в пересохшем рту солёную влагу. Неужто это те слёзы, которым она не дала пролиться, когда над ней глумился враг?
- Ты можешь всё... - прошелестел ответ. - Храни бубен...
Ешка, хоть и уже не чуяла в себе ничего человеческого, удивилась:
Скелет высунул из-под рубища кость и поднял её, указывая за спину Ешки.
Она обернулась... Почувствовала, как шевельнулись волосы на затылке.
Огромные сгнившие руки крепко вцепились в обидчика. А мощная лапы, на которых кое-где ещё были мускулы, сдирали с его спины кожу кривым ножом.
В Ешке что-то оборвалось. Да, она хотела смерти разбойника, но человеческой смерти... Видеть же, как струится кровь, как поднимается пласт желтоватой, в багряных разводах и крупинках жира, кожи, которая тут же подсыхает и синеет, стало невмоготу. И, глядя на судорожно дёргавшиеся в смертной муке рёбра обидчика, Ешка впала в беспамятство.
Когда очнулась на твёрдом, не поверила глазам: на месте мёртвого места зеленела трава, возвышались деревья. Возле неё лежал бубен -- небольшой, какие привозили для дитячьей забавы от кипчаков [половцев], когда ещё не воевали с ними. Ешка подняла бубен, дотронулась пальцем до тонкой кожи. Раздался тихий звук. Мирный, чистый... как журчание речки. Ясный и правильный, как мир, в котором она жила раньше. Вот бы всё стало по-прежнему!..
И поняла, что по-прежнему уже ничего не будет.
Неподалёку распростёрлось тело с ободранной спиной, взявшейся коричневой коркой, над которой роились мухи. По застывшим багровым потёкам бегали мураши и два чёрно-красных жука-падальщика.
Но человек был ещё жив, хоть и не стонал. Голова свёрнута набок. Шевелились губы, вспухшие синим пузырём. Редкое дыхание приподнимало запавшие межреберья.
Ещё дальше валялось то, что осталось от Боли-бошки. А вот у него костей, кроме остова, не оказалось. Ешка поняла, из чего сделан её бубен. Но не выпустила его из рук.
И вдруг тело издало хриплый звук:
Ешка поняла: недобиток просит помощи. И ещё то, что уйти просто так она не сможет, хотя не чувствует больше ненависти. И покоя прощения тоже. Просто этот полумертвец может ещё пригодиться. Для чего? А зачем болотницы заманивают прохожих? Или русалки поют свои песни зазевавшимся людям?
Ешкин живот вновь свело от голода. Но вид запёкшейся крови недобитка заставил ноздри брезгливо затрепетать -- негоже ей питаться падалью. Ну или почти падалью...
Она легонько стукнула пальцами в бубен, думая о еде... о чистой, живой, здоровой крови, которая потоком хлынет в сухое горло, наполнит теплом...
Бывший насильник шевельнулся, закорячился, поднимаясь.
Ешка подивилась: и откуда в нём жизнь взялась? Или это её бубен, который отныне нужно беречь, творит чудеса, как в сказке? Шлёпнула ладонью по коже и велела: "Приведи сюда... кого-нибудь! Живо!"
Драный насильник так и не смог распрямиться, поплёлся куда-то, чуть ли не касаясь руками земли и спотыкаясь. Ешка уверилась: найдёт и приведёт. И ослушаться не сможет.
Ушла в тень раскидистой черёмухи и уселась ждать своего часа. Время текло, солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь густую листву, истончались и гасли. Иногда Ешка хлопала, забавляясь, ладонью по бубну и знала: по лесу сейчас разнесётся нечто вроде неслышного звона, от которого любой вздрогнет и начнёт оглядываться, а потом скажет: "Почудилось".
А в лесу ничего не чудится. Просто не всем видится. Или видится и слышится не то, что есть на самом деле. В жаркий полдень обдаст затылок холодом -- это русалка рукой дотронулась. Шевельнётся густая трава - то не заяц прыгнул, а лесовка охотника заманивает. Или голос ветер принесёт -- беги прочь, не вздумай отозваться, а не то погибнешь от взгляда лесного Лиха.
В родительском доме Ешка часто допытывалась у тяти: отчего они все такие злые -- кикиморы, лесовики, болотницы? Тятя отвечал: чтобы человек не плошал, а умнел. Чтобы знал: он не один на миру и не голова всему. И самое главное не то, что наверху, а то, что снизу -- корни.
Но отчего ж нет ни тоски, ни боли, когда вспоминается дом, мама и тятя? Почему так пусто и холодно? Может, у неё теперь и сердце не бьётся? Вот и рука, прижатая к груди, ничего не ощущает...
Под черёмухой тени уже становились сумерками и входили в Ешку невиданной силой. Уши ловили любой шорох, глаза видели и вокруг, и над, и под, а разум вмещал все мысли народца, оживавшего в корягах и пнях, меж сросшихся стволов деревьев, в их высоких кронах и переливистых струях лесных ключей.
Ешка насторожилась: кто-то брёл по лесу. Нёс с собой запах дыма и смерти.
Показался недобиток. Один. К спине прилипли мелкие веточки и листья. В волосах, склеенных засохшей кровью, застрял сучок.
Ешка с холодной яростью посмотрела на него. Это почувствовала ближняя нежить, и лес наполнился шорохами: быть пиру!
Раненый из последних сил подошёл к черёмухе и упал на колени. Повернул голову, подставив шею. Догадливый какой...
Ешка вышла из-под полога листвы. Ослушника, который никого не привёл, следовало наказать. Но... откуда дым-то? И запах пропастины?
Ешка тронула бубен. Он отозвался глухим рокотом. Тогда она позволила бывшему насильнику: "Говори..."
Горло недобитка вдруг вздрогнуло, а изо рта вырвались вой, кашель, невразумительные выкрики. Ешка подождала немного, а когда уже потеряла терпение, разобрала:
- Кипчаки!.. Нет никого живого...
Кипчаками когда-то пугали малых. Ей-то какое дело до врагов: князя с его крестовым, кипчаков, норовивших напасть исподтишка, разбойного люда, который берётся из разорённых сёл или от того, что головы дурны? Но недобиток вымолвил:
А из чащи донёсся заунывный крик вытьяна. Почуял беду. Как тогда, во время Круга...
Ветряным шумом запел в руках бубен.
Ночь в лесу настала быстрее, чем погасло солнце и потемнело небо.
Ешка уже не смогла ждать. Подняла вверх бубен, который точно захлебнулся радостью, закружилась от лёгкости в теле.
Раненый очнулся, зашевелился от холода -- земля быстро выстывала, - приподнял голову и уставился на Ешку. И увидел не малую, над которой жестоко надругался; не ведунью, страшно ему отомстившую, подчинив его разум и тело. Не оголодавшую нежить. А ту, чьё имя в темноте произносить нельзя.
Мара... Сама смерть, что пляшет на костях и смеётся там, где человеку горе.
Проморгался, и вновь перед ним малая.
Спросила, глядя на него сверху вниз:
- Ушкан я. Пришлые мы с отцом. У дядьки в Быховце остановились. Отец извозом занялся... - заторопился, глотая слова. Может, эта девка не выпьет кровь и не бросит на поживу тем, кто шуршит, где потемнее.
Неподалёку колыхнулась трава, приподнялся слой многолетнего опадня. Из-под него сверкнул голодом лихой глаз. Ешка шикнула: "Кыш!" Опадень осел, стал просто слежавшейся листвой.
- Возьми под защиту... - прошептал и ткнулся лбом в землю от стыда и вины. Уж очень помирать не хотелось.
- Что ж у своего крестового защиты не просишь? - вымолвила малая.
Ушкан рванул шнурок с шеи, отбросил фигурку Бога-на-Кресте.
А девка расхохоталась так, что всё кругом зазвенело.
Ушкан глянул на грудь и затрясся: кожа запеклась до черноты. Этот крест уже не снять...
- Не тронет тебя никто. Ступай себе. Возвращаю отнятое не по своей воле -- твою жизнь. Но так тому и быть, - сказала девка и пошла туда, откуда он появился.
- Кто ты?.. - спросил Ушкан тихо, еле шевеля губами.
Девка обернулась -- услышала, будто рядом стояла.
- Ешкой раньше звали. А теперь, кажись, полуночница, - ответила и двинулась дальше.
- Прости меня, Ешка! - взвыл Ушкан. - Прости, отслужу тебе!
Поднялся и, цепляясь в темноте остатками штанов за кусты и высокие травы, заторопился следом. Да где ж догнать эту Ешку! Точно летит над землёй.
Но почему-то ночной путь - в полдня дороги - показался короче. Очень скоро ветер принёс лай злобных кипчакских псов. Ещё чуть пройти -- и за подлеском начнутся поля.
Ушкан ещё больше заторопился. Он перестал обращать внимание на шорохи, которые преследовали его, на яркое, но зыбкое мерцание чьих-то глаз то тут, то там. Сказала же Ешка: не тронут. Значит, ему нечего бояться. Он в драку бы полез, если б кто-то два дня назад поддел его: ты, Ушкан, малую девку, да ещё тобой же порченную, слушаться будешь, как отца, побежишь за ней без огляда. А теперь...
Не поостерёгся Ушкан. Да не зверя, не нежить, а человека. Оплошал, и петля-удавка захлестнула его шею.
Ешка была счастлива. Лунный свет омыл её покалеченное тело, загладил царапины, выбелил синяки, заставил кожу сиять жемчужным светом. Ноги словно скользили над кочками, а глаза пронзали темень и видели всё лучше, чем днём.
В подлеске ноздри уловили едкий запах гари, беды и чьего-то страха. Ешка остановилась. Кто-то схоронился здесь.
- Велько... братко... - дрожа от страха, прошептал какой-то малец.
- Тихо ты... кипчаки рядом, - через некоторое время отозвался, видимо, брат мальца. - У них псы... учуют и порвут.
- Велько... - не унялся малец.
Ешка усмехнулась. Стоит показаться ребятам. Чтоб сидели тихо, как неживые. Или... Нет, младенческая кровушка не для неё.
Ешка в один миг оказалась рядом с раскидистой ивой. Как же громко бьётся в страхе человеческое сердце! Прямо на весь лес. Зато движения полуночницы беззвучны для людей.
Раздвинула ветки рукой и глянула на скорчившиеся фигурки.
- А-а! - придушенно выдохнул старший, увидев Ешку.
Малый же просто сомлел от взгляда нежити.
То-то... Прячетесь -- так станьте опавшей листвой, стволом дерева, травой. А то разболтались... Ешка двинулась дальше. Её провожал дробный перестук испуганных сердчишек.
Жалко ей ребят? Да ничуть... В лесу одна заповедь - выживи. А не можешь -- умри. Да и смерти здесь нет. Просто одна жизнь перейдёт в другую.
А вот и поле со всходами.
Ешка по привычке пошла межой.
Рожь серебрилась в лунном свете, казалась тьмой маленьких копий.
Смрад от гари стал нестерпимым. А тут ещё собачий вой взметнулся в небо. Ага, почуяли... бегите прочь. Пёсья кровь - только на время бескормицы. Но вам-то это откуда знать.
Стреноженные лошади паслись на молодых ростках, которые должны были подняться, заколоситься, вызреть и прокормить целое село. Не заколосятся, да и кормить некого...
Кони зафыркали, стали сбиваться в табун. Надрывно, жалко заржала испуганная молодая кобылица. Нет, не из-за Ешки. Это уцелевший овинник пощекотал брюхо лошадке. Только теперь, после огня, он не будет её пестовать. Нащупает полную жилу, да и вонзит в неё единственный зуб. А утром первыми найдут падаль вороны...
За полем, которое вмиг кончилось -- словно половик из-под ног выдернули, Ешка увидела телеги, составленные кругом возле громадного костра. Тошнотно завоняло каким-то варевом.
Ушкан оказался не прав -- у страха глаза велики. Не все из села были мертвы, несколько молодых баб и девок тихонько подвывали, связанные. Их охраняли трое кипчаков, похожие на горбатых из-за колчанов. К ним подошёл ещё один, видно, согнутый от старости. Что-то гортанно крикнул. Сторожевой обрезал верёвку, которая связывала запястья девки с длинным шестом, потащил несчастную к костру.
И тут Ешка ощутила странное беспокойство. Ей не было дела до кипчакских полонянок. Такова жизнь -- первым хлебает тот, за кем сила. В ночи скрывался кто-то, чья мощь больше, чем Ешкина, чем всей нежити разом. Чьё-то присутствие заставило полуночницу вздрогнуть, задрожать и чуть ли не податься назад, в лес, под защиту её хозяйки -- Мары.
Ешка всё же подобралась поближе.
Услышала рёв. Это был крик не человека, не животного. А твари, какой не видывали ни свет, ни мрак.
Возле костра, прикованная цепями к железным крюкам, вбитым в землю, стояла гигантская птица, взмахивала громадными крыльями, рождая ветер. Сухие травинки, пыль и даже мелкие щепки взмывали вверх. Могучие лапы с хищно торчавшими когтями взрывали дёрн, швыряли его в стороны, бряцали оковами. Голова чудища была скрыта колпаком, похожим на ведро.
Согнутый кипчак, совсем не остерегаясь, подошёл к чудищу, вытащил из-за пазухи рожок и дунул в него. Пронзительный звук словно просверлил темноту, но успокоил огромную птицу. Она осела, растопырила перья.
К чудищу вытолкнули пленную девку, которая сомлела, кулём повалилась на землю. Кипчак шестом подцепил край колпака и сшиб его.
Если бы Ешке были доступны чувства, она бы закричала от страха.
На птичьем теле была человеческая голова, только вместо рта -- громадный клюв. Он открылся, и снова послышался ужасный рёв.
Кто это? Чьи глаза горят алым пламенем? Может, птица-див, о которой сказывали люди?
Чудище склонило голову набок и вдруг быстро вытянуло шею, рвануло клювом шею девки-полонянки, разом обезглавив её. Отшвырнуло голову, которая покатилась к ногам глазевших на зрелище кипчаков, но зацепилась всклоченной косой за что-то и остановилась, уставив вверх остекленевшие глаза. Чудище принялось громадными кусками пожирать плоть.
Странно, но Ешку снова стал корчить голод. Запах крови и разодранного нутра в холодном ночном воздухе породил нестерпимое желание прямо сейчас, в этот миг, вкусить чей-то тёплой жизни.
Не помня себя, подчиняясь только жажде, Ешка подкралась к сторожившему пленниц кипчаку, который тоже наблюдал за мерзким пиром. Шея кряжистого и невысокого воина была защищена сеткой, спускавшейся из-под шапки.
Но одна из женщин вдруг увидела Ешку. Близкий ли конец жизни сделал её зрячей во тьме, сама ли полуночница, оголодав, явилась ей, но полонянка без всякого страха, равнодушно поглядела на ту, которая служила Маре и если не приносила смерть, то была её предвестницей. Закинула голову, открыв шею, потом снова посмотрела.
И Ешка поняла её. И приняла жертву.
Насытившись, заметила, что вроде как стала выше.
Кипчак, наверное, почувствовал всего лишь, что какая-то мошка ужалила его между ухом и скулой. Поднял руку, чтобы отогнать, но неслышно осел на землю.
Другие кипчаки вдруг суетливо что-то стали толкать себе в уши.
Нажравшееся чудище со зловонием и жуткими звуками отрыгнуло кости. Подняло башку с погасшими глазами к небу и... запело.
Ешка не слышала таких звуков на земле. Всё живое вокруг стало впадать в оцепенение.
Теперь понятно, как кипчакам удалось разорить большое село, где в каждой избе были защитники и оружие. Пока княжьи разбойники разгоняли Круг, убивали и насильничали, враги ворвались в село и порешили, повязали всех под пение птицы. Мальцы, что прятались в лесу, наверное, утром незаметно сбежали. Может, ещё кто-то уцелел...
Ешка пошла прочь. Ей больше нечего здесь делать.
Возвращалась другой дорогой, сделав крюк по полю. Наткнулась на мёртвые тела женщины и малой девки. На них валялись кверху лапками крупные жуки-падальщики. Наверное, уже было начали своё дело, но оцепенели. Ешка стянула с покойницы рубаху, панёву и платок. Для чего? А если вдруг белым днём придётся показаться людям? И кипчакам тоже.
Натянула на себя страшно неудобную одёжку.
Поодаль показались ещё двое врагов, которые волокли недвижное тело. Неужто мальцам было мало Ешкиного урока, и старший попался? Нет, вроде взрослый мужик. Да это ж непутёвый Ушкан, злосчастный насильник! Не шевелится из-за пения чудовищной птицы... Мёртвый-то он зачем врагам?
Кипчаки заметили Ешку, быстро-быстро забормотали по-своему. Ага, подивились, как девка может не валяться без дыха. Ну что ж, не гонять ведь их по полю?
Ешка словно полетела над землёй и в один миг оказалась возле кипчаков, которым жить осталось совсем недолго.
С первыми рассветными лучами Ушкан очнулся. Не сразу признал Ешку, поразился:
- Ты это... вроде как подросла... И краше стала...
Ешка сверкнула на него глазами, и Ушкан зажал рукой рот.
Увидел мёртвых кипчаков и не смог смолчать:
- Бежать нужно! Мы тут на виду сидим. А вдруг кипчаки станут лес жечь? А если нас увидят? Тебе-то что... а я...
- При них громадная птица-див. Как запоёт -- все без дыха валятся. Коли её не убить, враги на другие сёла пойдут.
- Птица-див? - вновь поразился Ушкан. - Пуще того нужно бежать!
- Да кто тут нежить -- ты или я? - разъярилась Ешка.
Она скоротала ночь в думах, не в силах тащить тяжеленного Ушкана. И уйти не смогла почему-то... Всё не давала ей покоя чудовищная птица. Не можно ей вопить там, где был Ешкин Род и где сейчас началась её новая жизнь. Чужая эта тварь!
- В лесу малые ребята схоронились, - сказала примолкшему Ушкану. - Уведём отсюда, как с дивом покончим.
- Полоумная! - вскричал Ушкан. - Супротив дива никто не устоит! Сожрёт нас, будто и не было!
- Кипчаков не больно-то сожрал, - возразила Ешка. - Да и огня, верно, боится. Знаю, что говорю... любую нежить только пламенем убить можно. Вот ты и пойдёшь с огнём на дива!
- Я?! - возопил Ушкан, позабыв о том, что нужно стеречься. - Ну уж нет! Мне жизнь дорога!
- Правду говоришь, что дорога? - тихо спросила Ешка.
Ушкан сразу отодвинулся подальше от полуночницы. Не ровён час набросится.
Вот попал так попал! Как кур в ощип. Уж лучше бы отказался идти с дядькой. Нет, польстился на лёгкую добычу, безнаказанное охальство... Сиди теперь тут между двух огней, выбирай, что лучше: смерть от дива или от укусов полуночницы.
- Из-за тебя я такой стала... - шепнула Ешка.