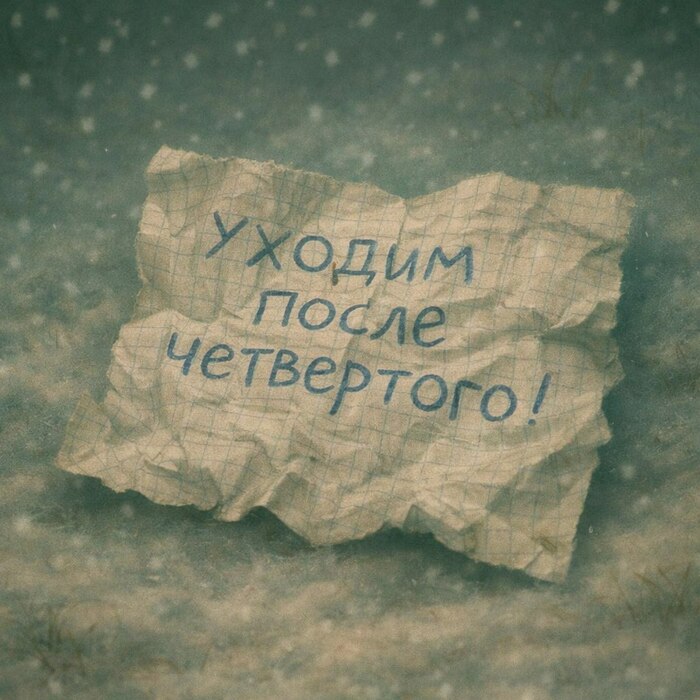Юлька
Иногда память — это не фильм. Это запах. Пыль горячего асфальта, сладкая гниль переспелой черешни под деревом, едкий дым от костра. И порох. Всегда порох — от петард, которые мы так и не решились взорвать. Лето 1999-го пахло порохом, который не взорвался. Оно пахло ожиданием взрыва, который так и не грянул. Вместо него пришла тишина.
В моём старом альбоме есть одна фотография. Неловкая, сделанная чьей-то материнской рукой на мыльницу. Я стою в дурацком школьном костюме с блестящими пуговицами и лямками, которые жмут под мышками. Рядом — Юлька. В чёрном платье, слишком взрослом, слишком мрачном для наших восьми лет. Оно висело на ней мешком, но она носила его с таким достоинством, будто это было вечернее платье из кино. Мы с ней как два инопланетянина, которые уже знают какую-то важную тайну.
Юлька не была похожа на других. Она уже вела свою войну. Её оружием был кирпич. Не метафорический, а самый настоящий, рыжий и шершавый. Во втором классе мы вдвоём пошли «грабить» школьную столовую. Не от голода. От скуки, от этого щемящего чувства, что должно же что-то происходить. Она, не раздумывая, швырнула его в большое окно возле пищеблока. Звон был оглушительным, таким живым и трепещущим в тишине вечерней школы. Мы замерли на секунду, глядя на зияющую дыру, окаймлённую острыми зубами стекла, а потом бросились наутек, смеясь от ужаса и восторга. Нас не поймали. И никто никогда не узнал. Это была наша тайна. Но важнее было другое — я знал, что она никогда и никому не расскажет. В её молчании была надёжность стали. Она была моим единственным союзником, моим громоотводом в сером, предсказуемом мире уроков и домашних заданий.
А потом наступило то лето. Последнее лето детства. Семнадцатого июля было жарко. Воздух дрожал над асфальтом. Она пришла ко мне не одна. С ней была новая подруга — Надя. Я её не знал. Юлька сияла. Она была наряжена, как на праздник: бусы из разноцветных пластмассовых шариков, белые кружевные носки и главное — новенькие туфли. Алые, лакированные, невероятно красивые. Она щеголяла в них, ставя ножку на носок, словно балерина.
«Пошли на пруд!» — позвала она, и её глаза блестели азартом того нового приключения, которое она уже придумала. Я уже кивал, уже чувствовал, как сердце бьётся в предвкушении этого «пошли», самого важного слова в моей жизни тогда. Но внизу у подъезда уже сидел дед, курил и ждал когда я наберу две полторашки воды и пойду с ним на огород, поливать огурцы. Я умоляюще смотрю на маму: «Можно с девочками?». Она, даже не оборачиваясь с плиты, бросает строго: «Дед джёт. Иди».
Чтобы дойти до огорода, нужно было миновать маленький магазин «У дома». Когда мы зашли купить хлеба, Юлька была там. Она стояла у прилавка, а её мама, тётя Ира, работавшая продавщицей, строго выговаривала ей через стойку: «Юлька, зачем туфли надела? Они же новые! На первый сентября! И носки эти белые — для школы куплены. На пруду запачкаешь!» Юлька лишь пожала плечами, держа в руках пачку жвачек «Love is…». Её взгляд скользнул по мне, и в нём мелькнуло что-то вроде понимания и лёгкой насмешки: «Видишь, какая я неправильная? И туфли надела, и носки белые. И всё равно пойду». Дед купил бутылку газировки Колокольчик и мороженное в стаканчике. «На, чтоб не грустил. Сейчас картошку печь будем, я соль взял». Печеную картошку я любил, но чувствовал себя каторжником, когда вышагивал по лесной тропинке за дедом. Я чувствовал, что Юлька меня больше никуда не позовет.
Возвращаясь с политого огорода, мы снова зашли в магазин.Дед купил мне еще один пломбир. «Вечером пойдем опять. Дождя нет давно, а они воду любят». Юльки там уже не было. Её мама, тётя Ира, лихорадочно пробивала чек за чеком в огромной очереди — в военном городке пенсии и авансы выпадали на одни числа. Она даже не взглянула в нашу сторону. Ночью пошёл дождь. Тёплый, летний, шелестящий по листьям тополей. Он смыл пыль и, казалось, смыл всё плохое. Я заснул под этот убаюкивающий шум.
А утром меня разбудили голоса. Мама, высунувшись в открытое окно кухни, о чём-то говорила с кем-то на улице. Голос был сдавленный, неестественный. Я подкрался и замер. За окном, прислонившись к стене, стоял наш сосед, дядя Вася. Он был шофёром, возил на своём «рафике» хлеб, а иногда — по другим, тёмным делам, о которых шептались взрослые. В руках у него была запотевшая бутылка водки. Он не пил. Он просто держал её, как костыль. «…Троих, понимаешь, троих, — хрипел дядя Вася. — Две девочки и пацан. Как узнал, у меня всё внутри оборвалось. Думал, твой с ними… Они ж неразлучные были… Как я боялся, что твоё дитя… что троих…в морге они уже»
Он поднял голову и увидел меня в окне. Его красное, опухшее лицо исказилось. Он не отвернулся, не смутился. Из его глаз, мутных и выцветших, потекли крупные, нестыдные слёзы. «Живой… — просто сказал он и заплакал навзрыд, опуская голову. Потом были обрывки. Обрывки правды, которые складывались в чудовищную картину, как осколки того самого окна.
Они ушли на пруд без меня. Нашли старый, полуразвалившийся плот из досок и ржавых бочек. Придумали игру — прыгать с одного края на другой. Тот, с которого они спрыгнули, качнулся, перевернулся и накрыл их сверху, как крышкой. Юлька плавала хорошо. Но джинсовый костюм, тяжёлый от воды, вцепившаяся в неё в смертельной панике, крупная Надя, и чудовищный удар по голове доской — этого оказалось достаточно. Девочки ушли под воду, не успив даже крикнуть.
На берегу, аккуратно поставленные рядком, ещё долго стояли две новенькие красные туфельки. И белые носочки, сложенные внутрь. Она сняла их, чтобы не запачкать. Она послушалась маму в самом конце.
Меня не было на похоронах. Мама в тот день молча собрала сумку, сунула мне в руки ту самую фотографию в школьном костюме, и мы уехали из городка. Куда — не помню. Помню стёкла машины, за которыми проплывал какой-то другой, чужой мир. Помню, как вечером мы приехали назад и зашли к тёте Ире. Та обняла мою маму, прижалась лбом к её плечу и прошептала: «Спасибо, что увезла. Правильно. Не надо ему было этого видеть». Её глаза были пусты. В них не осталось ни слёз, ни упрёков, ни вопросов. Только тихая, бездонная усталость. Я не плакал. Тогда и после. Я не плачу на похоронах до сих пор. Что-то во мне сломалось тогда навсегда. Не способность чувствовать — способность выражать. Боль превратилась в тихий, вечный фон, в шум в ушах после близкого взрыва.
Прошло двадцать семь лет. Я до сих пор не могу смотреть на красные лакированные туфли. Мороженое-стаканчик вызывает тошноту. А слово «надо» — холодную спазму где-то под сердцем. «Надо было полить огурцы». И лишь сейчас, спустя больше чем четверть века, до меня доходит простая, как гвоздь в крышку гроба, истина: Если бы дед не пришёл тогда — мама бы отпустила. Я не умел плавать. Панически боялся воды. Боюсь и сейчас. Но я бы пошёл. Потому что это была она. Потому что она позвала. И в девять лет я не знал слова «нет», когда дело касалось Юльки.
Значит, дед, огурцы, полторашки воды и строгий голос матери в тот день **спас мне жизнь**. Не героически, не осознанно. Случайно. Буднично. Они выдернули меня из сюжета, в котором у меня не было шансов. В сценарии было трое детей в воде, паника, цепкие руки и тина, затягивающая на дно. Вместо этого мне подарили долгую, безопасную, такую чужую жизнь.
С благодарностью, которая давит тяжелее вины. С виной, которая не имеет формы и имени. С немотой на похоронах. Со страхом воды, в которой осталась её тень. И с тихим, леденящим знанием: иногда тебя спасает не подвиг, а быт. Иногда твою жизнь сохраняют против твоей воли. И тогда ты живёшь. Но часть тебя, самая чистая и бесстрашная, навсегда остаётся на том берегу. В тех идеально чистых туфлях, которые так и не узнали дороги.
Я часто думаю о той игре — прыжке с плота на плот. О секунде невесомости между опорами. О том, что мы все, в сущности, всегда в этом прыжке. А жизнь — это тот самый старый плот, который может перевернуться в любой момент и накрыть тебя с головой. Юлька прыгнула. И не долетела. А я так и остался на берегу.
Я должен был быть с тобой, Юлька.
А вместо этого я до конца жизни благодарю случай за то, что он меня спас.
И ненавижу его за то, что он спас только меня.