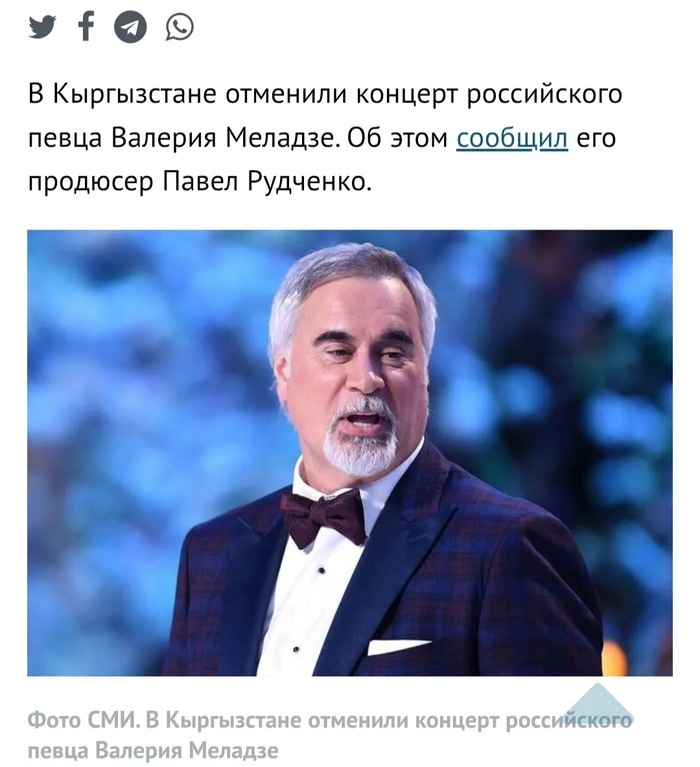Отмена концерта Меладзе
Мастерская Виктории Кригер. Большие гастроли по Приморскому краю. Часть 1
Как это случилось
Зимой прошлого года наш студент, тогда ещё второго курса, Федя Наумкин, задумал грандиозный план: поехать с курсом на гастроли в Приморский край. А именно в свой родной посёлок Пластун, который находится в 600 километрах от Владивостока, а Владивосток находится всего лишь в 9 тысячах километров от Москвы. Эта идея казалась заманчивой, но нереальной.
Но мечта сыграть спектакль на самом краю континента так вдохновляла, что уже зимой были заранее куплены билеты. К этому времени неделя гастролей превратилась в месяц. А два спектакля в Пластуне и Тернее превратились в восемь спектаклей в разных городах и посёлках Приморья. Так в общей сложности мы проехали около 1000 километров, начиная от Ливадии и заканчивая Тернеем.
Чтобы наша мечта исполнилась мы отказались от летних каникул, и весь июль, ежедневно, с утра до ночи репетировали спектакль «Маленький принц в большом городе» по пьесе нашего мастера Виктории Кригер.
Мы были такими уставшими, что нам искренне казалось, что у нас ничего не получается, что мы бездарности и ничего не умеем. Но пути назад не было и в начале августа мы сели в огромный самолёт и всего лишь через 9 часов полёта мы оказались во Владивостоке. В аэропорту нас встречали с цветами родители наших ребят Феди и Сени. Этот город мы полюбили с первого взгляда. Свежий чистый воздух, море, горы. Это было начало нашей большой любви к Приморскому краю.
Вид из окна квартиры в которой поселилась часть нашей группы
Золотой мост, громаднейший и очень красивый. Соединяет две части города
Владивосток мы вам показали пока что мельком. Но не бойтесь, к нему мы ещё успеем вернуться
Ливадия.
Большим подарком для нас была возможность отдохнуть 4 дня в одной из красивейших бухт Ливадии.
Честно говоря мы каждый день давали себе слово репетировать, но вместо этого грелись на солнце, любовались великолепием природы, моря, скал, жарили шашлыки, бегали от огромных насекомых и орали, прыгали по камням и плавали в открытое море на сапах, даже ночью, доплывали до прибрежных скал и забирались на них
Отдыхающий Савелий и один из домиков, в которых мы жили
Кот смотрит на проплывающий мимо кораблик
Бухта нашей базы отдыха
Другая бухта. Неподалёку. Пару раз даже добирались по открытому морю из одной бухты, в другую. На сапах
ВДЦ Океан.
Хоть мы так и не порепетировали в Ливадии, но зато на первый гастрольный спектакль во Всероссийском Детском Центре Океан мы приехали отдохнувшие и заряженные неимоверным количеством энергии. Вот только главный герой Джуниор (Федя), который должен быть бледным домашним мальчиком, оказался черес чур загорелым, больше похожим на маугли, особенно если сосчитать количество его ушибов.
Нам было страшно играть первый спектакль, тем более это был первый полный прогон на зрителя. Мы ожидали всего, но не такой реакции, которую получили в результате. Аплодисменты почти на каждую реплику, восторженные крики на выход Майкла Джексона и далее на каждый выход Сени Нестеренко, который играл в спектакле аж 7 разных ролей, очень яркие живые эмоции на каждое событие в спектакле. Каждый актёр был принят с восторгом. Сидя за кулисами и слушая реакцию публики нам казалось, что мы находимся на огромном стадионе и мы звёзды мировой величины.
В завершении нас ждали бурные овации в конце спектакля. Радостные мы поехали обратно во Владивосток, чтобы насладится красотой города, впереди нас ждало долгое путешествие...
Статья о нас на сайте Океана: https://okean.org/press-tsentr/news/malenkiy-prints-v-bolsho...
Далее фотографии и видео с этого спектакля
Больше фотографий из океана: https://disk.360.yandex.ru/d/leEqdMHbd8CKnQ
https://vk.com/album-25176_309734507
Илья Олейников и Роман Казаков
Вспоминая Илью Олейникова (Илья Олейников. "Я начинаю приобщаться к искусству, а искусство сильно сопротивляется"), нельзя не упомянуть его первого постоянного партнёра по сцене и съёмкам - Романа Казакова (1948 - 1986).
Думаю, многие хорошо помнят их коронный номер "Вопрос, конечно, интересный!..."
И не менее популярный в народе в 80-х номер Казакова и Владимира Винокура "Склероз на двоих", там где "Доктор, у меня - ЭТО!...", "Ну, это мелочи..." и "В кузне травел сидечик..."
А в остальном, знаем мы о Романе Казакове, ушедшем из жизни всего в 38 лет, очень мало.
Поэтому слово Илье Олейникову.
"Вообще-то звали его Рувка и фамилия Рувки была вовсе не Казаков, а Бронштейн. Так случилось, что задолго до Рувки у этой фамилии обнаружился еще один обладатель — некто Троцкий, у которого были в своё время какие-то нелады с Лениным.
Так вот, у этого самого не ладившего с Ильичом Троцкого фамилия, если вдруг кто не в курсе, была - Бронштейн. Согласитесь, товарищи, факт малоприятный.
Не уверен, был ли сам Троцкий родственником Рувки, но, как ни крути, и ортодоксальный коммунист Троцкий, и неортодоксальный еврей Рувка — оба были Бронштейнами.
Ситуация осложнялась тем, что если по папе Рувка являлся Бронштейном, то по матери он и вовсе был (прости меня, Господи!) Каплан. А данная фамилия, как известно, сулила Ильичу совсем мало хорошего. Согласитесь, что наличие двух таких, прямо скажем, контрреволюционных фамилий у одного субъекта не предвещало данному субъекту сахарное будущее на советской сцене.
Субъекта Рувку спасла девочка, Ф.И.О которой не коробило слух как карательных, так и других органов осязания и обоняния. Её Ф.И.О была Казакова. Звали ее Вера. Они расписались и сделали неравноценный обмен — она отдала ему фамилию, а он ей свои неприятности. Чего-чего, а неприятностей у него было много. Ими он мог одарить не только Веру Казакову, но и всё население Ленинградской области.
В тот период и меня жизнь не баловала блестящими зигзагами и поворотами судьбы. Рома работал сам по себе, я — сам по себе, и единственное, что нас объединяло, это скука и сознание абсолютной невостребованности. Всё решилось в одно мгновение у пивного ларька. В двадцатиградусный мороз, когда мы выпили несколько кружек пива приблизительно той же температуры, нам показалось, что если две отдельно взятые бездарности сольются в едином творческом экстазе, то они, эти бездарности, неожиданно преобразятся из двух хреновых творческих единиц в одну, тоже хреновую, но зато очень большую. То есть как бы появилась возможность брать если уж не талантом, то хотя бы массой. Вопреки всем законам логики наша бредовая идея неожиданно материализовалась, и вскоре наша странная пара предстала перед изумленными глазами худсовета Ленконцерта или, как мы игриво называли его между собой, ЧЛенконцерта.
Мы начали бороздить моря и океаны эстрадных площадок одной шестой части света. Наши просветленные лица можно было увидеть в любом уголке страны. Сегодня мы бичевали бюрократов на сцене огого - Кремлевского дворца съездов, а завтра уже распевали разящие куплеты про завстоловой в оленеводческом совхозе, где-то там, за северным сиянием. В три часа дня мы балагурили в неотапливаемом клубике женской колонии, а в семь вечера вместе с нами уже веселился медперсонал и больные психбольницы № 5. Этих рассмешить было легче всего.
Мы любили наших зрителей, где бы они ни находились. И зрители отвечали нам тем же — они любили нас. И только одно омрачало безоблачное существование — то, что так любившие нас зрители начинали любить нас только по окончании концерта. По окончании. А не до. Потому что они шли не на нас.
Они шли на некий концерт, в котором участвуют некие артисты. Шли просто так, от нечего делать, от желания убить вечер. Тогда еще ходили на концерты. На все. И на плохие, и на очень плохие.
Никогда, товарищи, не верьте артисту, если он говорит, что не стремится к известности. Это или кокетливая неправда, или гнусная ложь. Сам а профессия предполагает наличие тщеславия у того, кто решил заняться этим ремеслом. Тщеславие является тем самым кнутом, который подгоняет артиста. Заставляет его работать до седьмого пота, превращает в загнанного раба. Но вот заканчивается фильм, концерт, спектакль (неважно что), падает занавес, зал сотрясают аплодисменты, и артист счастлив. Счастлив как ребенок, потому что он и есть ребенок, а дети любят, когда их хвалят и гладят по головке. Любите артистов, товарищи! Любите, и чаще гладьте их по головке. Вам это ничего не стоит, а им приятно…
Итак, нас с Ромой снедала жажда славы. По ночам нам снился телевизор «Рубин» и мы в нём. Не было ночи, чтобы этот кошмар нас не преследовал. Нельзя сказать, что мы сидели сложа руки. Мы делали всяческие попытки. Мы снимались, и нас снимали.
Но снимали, как правило, в тех передачах, которые потом тоже снимали. Но уже с эфира. Если же передача, в которой мы по чьему-то недосмотру оказались, все-таки появлялась в «тиливизире», то это вовсе не значило, что вместе с передачей в «тиливизире» появлялись и мы. Это значило только одно — что как раз мы в ней и не появлялись. Нас «вырезали» и «вырезали» телередакторы и режиссеры. Фантазии их не было границ— никогда очередная причина сегодняшней «вырезки» не совпадала с предыдущей.
Однажды, после очередной «вырезки», мы устроили тризну по себе, по окончании которой я сказал:
— Не кажется ли тебе, Ромик, что нам пора проанализировать истоки наших неудач?
— А чего тут анализировать, — мудро ответил Рома и, зевнув, начал отходить ко сну.
— И всё-таки почему бы не проанализировать? — не успокаивался я.
Рома был умным. Он знал и помнил все, что только мог знать и помнить эрудированный, начитанный сын Бронштейна и Каплан. И даже чуть больше. И потому он сказал:
— Да нечего тут анализировать. Все и так понятно: два жида в три ряда — вот тебе и весь анализ.
— Значит, ты, Рома, настаиваешь, что неприятности идут от того, что в нашем дуэте всего два человека и из этих двоих — оба евреи?
— Настаиваю я на лимонных корочках, — сказал умный Рома, уже засыпая. — Но уточняю: не просто два, а двое из двух. Ты понял? А два еврея из двух — это уже перебор.
И тут меня осенило.
— Рома! — сказал я. — Рома, вот ты говоришь, что два еврея из двоих это перебор. А я тебе, Ромик, больше скажу. Даже один из одного — это уже перебор, причём чудовищный. И надо с этим что-то делать!..
Но Ромка этого не слышал. Он спал, этот умный маленький человек. Он знал, что когда трудно, лучше поспать. Глядишь, проснешься утром — и все пучком.
И все-таки мы продолбали этот неприступный форпост, именуемый «Останкино». Задницей ли, локтями, ногами, головой ли — это неважно. Важно, что продолбали. Я думаю, что Господь, наблюдая за нашими мучительными безостановочными попытками взобраться на проклятый Олимп и видя, как мы, падая, каждый раз обдираем до крови кожу, испытал некоторую неловкость. Он, наверное, подумал: «Ладно, хорош! Так ведь и изувечиться недолго», и дал разрешительную отмашку. Я благодарен Господу за его мудрый поступок. Говорю это без всякой иронии. Я благодарен Господу за поддержку, потому как в той ситуации помочь нам мог только он.
Итак, Господь переключил красный свет светофора на зелёный, и у нас поперло. Мы стали дуэтом "Олейников - Казаков", и теперь появлялись в самых популярных передачах. Нас начали узнавать. Когда у меня впервые попросили автограф, я от неожиданности отпрыгнул, приняв за сумасшедшую эту тётеньку с ручкой и записной книжкой.
Мы с Ромой почувствовали первые чуть тёплые прикосновения лучиков славы.
И вдруг всё кончилось. Ромка ушёл. Через шесть месяцев. Нелепая смерть. Всякая смерть нелепа, но эта казалась мне самой нелепой и нелогичной.
Его выписали из больницы. (Годом раньше у Казакова диагностировали рак лёгких. Прим.) Он поселился у одной старушки. Старушка была одинока, Ромка тоже, и она полюбила его как первенца. Она ухаживала за ним, она убирала за ним, она готовила ему еду, и он, видя старушечьи старания, тоже, по-своему, пытался о ней заботиться, хотя она в его заботе не нуждалась. Это была железная бабушка. Долгие стояния в очередях за всем, что дают, сделали ее бессмертной. Лет ей было около восьмидесяти, но, глядя на нее, становилось понятно, что дева в белом саване и с косой давно потеряла всякую надежду прибрать её к себе.
Я был спокоен, я понимал, что железная бабушка разобьется в лепешку, а Ромку выходит.
К сожалению, я ошибся.
В одну гнусную ночь прозвенел звонок и в телефонной трубке раздался отчаянный бабушкин голос:
— Илюша, Ромочка умер.
Я почувствовал, как ноги стали ватными.
— Ромочка умер, — снова сказала она. — Книжку читал, потом вздохнул, книжку выронил и умер. А книжка на полу валяется.
Я ничего не соображал.
— Как умер, от чего умер?
— От сердца. Вон «скорая» приехала. Говорят, сердце не выдержало.
Я приехал к Роме. Он лежал в спортивных штанах и синей рубашке. Но это уже был не Рома. Мне казалось, что передо мной лежит памятник. Торжественный и величественный. Даже рубаха, казалось, была сделана из мрамора. Санитары накрыли его простыней, положили на носилки, понесли, и вдруг второй, шедший сзади, узнал его.
— Слушай, да это же этот… как его… «вопрос, конечно, интересный».
— Да ты чё? — удивился первый, обернулся и уронил Ромку. Ромка лежал на полу, безучастный к восторгам санитаров.
— Ты глянь, — обрадовался первый, — действительно, он.
— Ну вы, козлы, — не выдержал я, — положите его на носилки, пока я вас кочергой не перебил.
Через день Ромку похоронили. После кладбища пили и плакали. Плакали и пили.
С той поры прошло девять лет.
На ячейке с Роминой урной сломан заборчик. Фотография слиняла и наполовину отодрана ветром. И только рядом с урной валяется скукоженный искусственный цветок, принесённый кем-то когда-то очень-очень давно…"
Из воспоминаний И.Олейникова.
Сослан Фидаров + культбригада Москонцерта (про СВО)
Далёкие девяностые
В далёкие девяностые работал я импресарио цирковой группы, в двух словах организовывал гастроли по всей стране. Это был цирк на сцене и выступали мы по ДК. Иногда, крайне редко, при заключении договора, директор ДК спрашивал у меня лицензию на осуществление нашей деятельности. Ну сами подумайте, какие нахрен лицензии в девяностые! На такой случай была у нас заготовлена красивая бумага, которая разрешала нам гастролировать и выписана была нами же... Мы сами себе выдавали лицензию! И всех устраивало.
Как Илья Олейников шубу жене покупал
Обещанная некогда история о зарубежных покупках и версия про "купи х..ню" от И.Олейникова.
По-моему, невозможно встретить женщину, которая осталась бы равнодушной, услышав заветное «шуба». Уж на что моя жена была выдержанным человеком, но и она, завидев этот предмет в витрине магазина, начинала томно щуриться, вероятно, представляя себя в этом роскошном одеянии, небрежно прогуливающейся где-нибудь в швейцарских Альпах.
Увы, ни то, ни другое ей не светило. Денег в нашей семье хронически не хватало. Деньги — странная штука. То их нет, то их совсем нет.
Итак, шубка долгие годы оставалась недостижимой мечтой. Пока в один холодный январский вечер меня не вызвал начальник отдела кадров Ленконцерта (где я тогда работал) Горюнчик, которого мы любовно называли «Гальюнчик».
— А не хотите ли вы поехать на гастроли за рубеж?
— Кто ж туда не хочет? Хочу, — говорю.
— В Афганистан.
— Кто ж туда захочет? Не хочу, — говорю.
— Но если вы съездите в Афганистан, мы потом отправим вас с шефскими концертами для наших воинов в Венгрию. Мы вас не торопим. Подумайте.
— А чего тут думать? Хочу в Афганистан, — сказал я, мгновенно проанализировав ситуацию.
Водки в Афганистане в 1983 году хронически не хватало.
Не афганцам, нет. Нашим. Весь местный запас алкоголя был уничтожен ограниченным контингентом советских войск в самые короткие сроки. Ограниченный контингент мучился и, буквально давясь, вынужден был пить всякую гадость. Я из чисто гуманитарных соображений решил помочь интендантской службе в решении этой сложной, но не невыполнимой задачи. Водки я купил чемодан. Ушла она в первые же минуты моего пребывания на дружественной нам тогда афганской земле. Теперь вместо чемодана водки я держал в руках чемодан денег. Гряз-ных афганских денег.
— Сколько стоит лисья шубка? — небрежно спросил я у сопровождающего нас майора.
— Да черт её знает! Тысяч десять, наверное, — ответил майор.
Всю ночь, положив чемодан на тумбочку бдительно спящего дневального, я пересчитывал честно наспекулированную мною валюту. Сколько бы я ни мусолил купюры, получалось, что на покупку шубки недостает нескольких тысяч. И тут мой взгляд упал на висящее в углу кожаное пальто. Когда-то его носил мой отец, чуть раньше — его отец. Это была семейная реликвия, которая сохранилась только потому, что тяжко было её (реликвию) выбросить. Я оглядел пальто скептическим взором. Вид у него был неважнецкий. О том, что это пальто, а не, скажем, половая тряпка, можно было догадаться исключительно по пуговичкам. Пуговички были австрийские. С первой мировой войны.
«Ничего-ничего, — сказал я сам себе, — все путём… Возьму у солдатика гуталина, начищу пальтишко, срежу с рубашки итальянскую бирку, пришью чуть ниже воротничка — ни одна падла не догадается. Будет как новенькое».
На следующий день я, крепко зажав под мышкой надраенное до блеска кожаное хламье, ринулся на базар. Кругом сновали бойкие афганские пацаны, неся на головах лоточки, на которых валялась всякая всячина — зажигалки, дешевые часы, жевательная резинка.
— Совецки! — кричали они наперебой. — Купи херня! Купи херня!
Дело в том, что наши офицеры, завидев товар, который продавали мальчуганы, и тщательно его осмотрев, подытоживали увиденное по-военному четко:
— Херня!
А пацаны, решив, что «херня» есть исконно русское слово, обозначающее мелкую торговлю, застолбили его за собой. От раздающегося со всех сторон «купи херня» у меня разболелась голова.
«Действительно, херня!» — подумал я и решительным шагом направился в сторону лавочек, где ассортимент был посерьезней. Мне повезло. В первой же лавчонке висела ослепительно рыжая шубка. За прилавком стоял старик, ничем не отличающийся от среднеазиатского аксакала. На голове его красовался малахай, из подбородка просачивалась редкая седая бородка.
— Заходы, рафик, заходы, друк, — залопотал аксакал.
— Хау мач шубка? — спросил я.
— Друк рафик, — продолжал лопотать аксакал. — Списиално для тибе — десат сисач. — И добавил: — Максимално!
— Вот у меня пальто, — сказал я, медленно и громко выговаривая каждое слово. — И-та-ли-я! Почти но-вое. И-та-ли-я! — и показал на бирку, чтобы аксакал не сомневался в иностранном происхождении моей кожаной тряпки.
— Я да-ю те-бе паль-то и пять ты-сяч. Пять!
— Нэт Италыя, нэт палто. Десат сисач давай — счупка твой, — лопотал аксакал. И снова добавил: — Максимално!
— Мужик, — начал я торговаться по-новой. — Пальто итальянское, кожаное, понимаешь? Кожаное! Итальянское! Вот бирка. Би-ры-ка!
— Пирка, — повторил он.
— И еще я тебе, дураку старому, пять тысяч даю. Целых пять.
И выбросил на руках пять пальцев. Но аксакал заладил свое:
— Нэт палто, нэт пирка. Десат сисач давай. Максимално.
— Сволочь! — заорал я совсем уже не в себе. — Я тебе, саксаул ху...в, даю пальто итальянское и пять тысяч. Что ж тебе ещё надо? — распоясался я, утешая себя тем, что старик ни шиша не понимает.
Но тот держался стойко.
— Нэт палто, нэт пирка. Десат сисач давай — бери счупка.
Торговаться было бесполезно. В других лавках шубки стоили одиннадцать, двенадцать, а то и тринадцать тысяч. Охрипший и злой, брел я по узким улочкам, волоча за собой потерявшее всякий вид пальто, как вдруг увидел резко затормозивший джип, на котором гордо восседал комендант Кабула полковник Полешкин.
— Что случилось? — спросил он.
— Да вот, шубку жене хотел купить. Пальто даю итальянское, деньги даю, а он, гад, не берёт.
— Кто не берёт? — не понял Полешкин.
— Да старик в лавке. Лавка тут рядом, а он, гад, не продаёт.
— Так не продаёт или не берёт? — снова не понял Полешкин.
— И не берёт, и не продаёт, гад!
— Ты погоди, объясни толком, чего он не берёт и что он не продаёт?
— Неужели непонятно? Пальто не берёт, а шубу не продаёт, — удивился я недогадливости Полешкина.
— Да почему ты ему пальто отдать должен? — окончательно запутался Полешкин.
— Денег на шубу не хватает. Она стоит десять тысяч, а у меня всего пять. Вот я и хочу ему дать пять тысяч и пальто в придачу. Вместо недостающих пяти. Главное, пальто нормальное. Итальянское, почти новое.
Комендант смерил меня взглядом и сказал:
— Ладно, поехали.
Появление полковника Полешкина, да еще с двумя автоматчиками, вызвало у старика такую бурную реакцию, какую я ни до того, ни после не видел и, скорее всего, уже не увижу никогда. Он даже подпрыгнул, когда эта святая троица вошла в лавку.
— Ай-я-я-я-я-я-яй! — заверещал он на какой-то невообразимо высокой ноте. Судя по ней, я понял, что старик уже неоднократно встречался с Полешкиным и каждая такая встреча не проходила для него даром. Она всегда дарила ему несколько неожиданных, но, безусловно, незабываемых мгновений.
— Где шубка? — спросил у меня Полешкин, не обращая на вопли и пританцовывания старика ровно никакого внимания.
— Вот она, — кивнул я в её сторону, впервые почувствовав всю неловкость и абсурдность положения, в которое попал.
— Шубку! — приказал он все еще не пришедшему в себя от внезапной радости старику.
— Есть счупка! — проклокотал тот, продолжая выделывать невообразимые па.
— Дай ему пять тысяч и пальто! — приказал Полешкин теперь уже мне.
Старик взял пальто и деньги, даже не пересчитав. Не думаю, что это была самая удачная сделка в его, несомненно, долгой жизни.
— Как ты мог? — спрашивала меня жена Ира, когда я вернулся домой, и в голосе её звучали прокурорские интонации. — Как ты мог? Ведь ты же интеллигентный человек!
Я мотивировал свой постыдный поступок исключительно политическим положением.
— Ирина, — сказал я достаточно убедительно, — ты согласна, что я, в принципе, действительно интеллигентный человек?
— Допустим, — с трудом согласилась она.
— Представь теперь, что я, такой интеллигентный, честный и порядочный, живу не здесь, а в Америке. Представила?
— Допустим-допустим.
— А теперь ответь! — выкинул я свой козырь. — Смог бы я, будучи интеллигентным, честным, порядочным и обеспеченным— подчеркиваю — обеспеченным американцем, пойти на такую мерзость?
Ирина задумалась.
— Вот так-то, милая. Не во мне дело-то. Не во мне. Режим виноват.
— Какой режим? — Ирина разинула рот от удивления.
— Наименьшего благоприятствования.
Объяснение если и не удовлетворило Ирину, то, во всяком случае, успокоило. Семейное статус-кво было восстановлено.
Илья Олейников
Продолжение поста «Задумался. Почему начать концерт или спектакль с задержкой на полчаса или час считается нормальным?»1
Посетил концерт Шнура в Казани.
Вот это профессионал своего дела!
Начал ровно в 19:00, как и написано