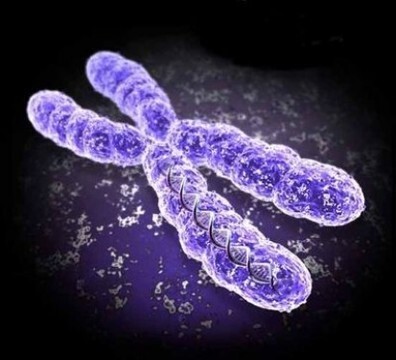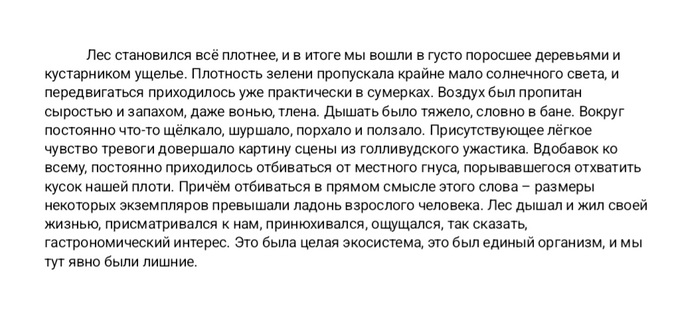После сессии, которая прошла буднично и спокойно (удалось даже неплохо отдохнуть душой и телом, пролистывая учебники; изучая всё, что мне присылали подруги из Москвы; занимаясь фотографией в новом для себя жанре - макро, и пробегая километры прохладными утрами по дорожке вокруг парка), началась врачебная практика.
Двум нашим группам досталась ЦРБ в Рудногорске, о которой я слышал много хорошего, как и о самом райцентре.
Городок оказался очень симпатичным. Современная свободная застройка, практически чистый воздух и большое красивое озеро. Когда-то тут был карьер. Уже много лет назад, когда руду полностью выбрали, здесь перестали отводить воду и карьер заполнился до краёв. Получилось овальное озеро размером километра два на полтора, которое соединилось с протекавшей неподалёку речкой Полынкой. На берегу со стороны города разбили городской парк со всеми атрибутами культурного отдыха. Противоположный берег облагораживать не стали, и там ничто не мешало природе восстановить естественный порядок: заросли всякой водолюбивой растительности с языками песчаных пляжиков.
Вполне можно было считать, что практику мы проходим на курорте.
Нас с Серёжкой Белкиным поселили в комнате рабочего общежития. Мы потратили остаток дня на рекогносцировку А следующим утром приступили к своей врачебной практике. Надо же кому-то заниматься писаниной за ушедший в отпуск персонал. И не только ею. Больница оказалась на удивление хорошей. Она считалась санчастью горно-обогатительного комплекса - богатейшего предприятия, которое буквально не знало, куда девать деньги, на что бы их потратить в конце каждого года, чтоб не отобрали просто так на следующий. Так вот, главврач это, как раз, отлично знал. Не ведаю, каким должно быть лечебное учреждение по самому последнему слову, но рудногорская ЦРБ была оснащена по самому предпоследнему, это точно. Сюда даже привозили на лечение особо сложных больных из областного центра, чтобы пользовать их какими-то немыслимо сложными и дорогими импортными аппаратами, которых больше не было нигде, даже в Областной больнице. В отделении физиотерапии и реабилитации было аж целых два бассейна, и совсем не маленьких, обставленных всякой блестящей машинерией для гидротерапии. В общем, если есть на свете медицинский рай, то здесь был его рудногорский филиал. Праздник, а не студенческая практика.
Болезненные вскрики, стоны и "Ничего тут не поделаешь. Инна, позвони анестезиологам, пусть пришлют кого-нибудь поставить подключичку." - я услышал с порога терапевтического отделения и сразу забежал в палату, откуда всё это было слышно. Ну, так оно и есть: больной "без вен". Тучный краснолицый мужчина с мученическим выражением лица, с хорошо заметной одышкой и слышными на расстоянии хрипами в лёгких, полусидит в функциональной кровати и с ужасом смотрит на пару очень милых дам - молодую врачиху* и рыженькую медсестру. По всей видимости названная процедура ему уже знакома, и ужас его вполне обоснован предыдущим опытом. Его счастье, что он не знает, насколько обоснован.
— Доктор, ну попробуйте ещё раз. Может на ноге, а? Я потерплю. А, доктор?
Бедолага. Ему необходимы внутривенные вливания, но из-за ожирения и отёков добраться до вен на руках невозможно - не видно их, на ногах отёки ещё больше, да и толку... Всё, что туда вольют, там и останется. В таких ситуациях "подключичка" - катетер в подключичной вене - почти идеальный выход из положения. Манипуляция, в общем-то, нехитрая, и в хороших руках практически безболезненная. Я даже успел один раз вполне успешно такую проделать. Правда, под бдительнейшим присмотром пожилого анестезиолога, который стоял рядышком в стерильных перчатках, готовый перехватить мои ручки шаловливые при малейшей ошибке. Ну не рассказывать же ему, что я чувствую пульсацию через иглу и в артерию не залезу. Но там ситуация была другой. Больной был обычной комплекции, под наркозом, и на управляемом дыхании. Идеальные условия. А тут — тут жуть одна. В такой полу-сидячей позе лезть в подключичную вену нельзя — это просто убийство, уложить дяденьку так, чтоб ноги были хоть немножко выше головы - невозможно. Он и так задыхается. Здесь есть очень ответственный момент, когда ему нужно задержать дыхание на выдохе. А он и на вдохе не может. При малейшей оплошности врача вена всосёт воздух, и больной моментально перестанет быть живым. "Ой, только не это!" - как говорят в импортных фильмах. Толстяк этих технических подробностей не знает, но в прошлый раз ему досталось так, что он согласен на любые другие мучения. А они совершенно не обязательны. Нужно просто отойти от стандарта. Опыт у меня уже такой есть.
— Доктор, простите, можно я попробую ещё разик в периферийную вену?
Она обернулась на мой голос. Ух ты, какая красивая! И ничуть не уступает моим "боевым гетерам" по прочим показателям, судя по взгляду, каким она меня оценила. Ладно, подробнее прочитаю её потом. Дядьку жалко.
— А кто вы такой, молодой человек? Что-то раньше вас не встречала.
— Я тут у вас первый день. Очень хочу помочь. Разрешите?
— А, вы новый практикант!
Вот этого говорить не следовало. Больной же слышит. Ах, как нехорошо! Ладно, совру во спасение.
— Я уже несколько лет работаю медбратом. Меня наши сёстры всегда зовут на трудные вены. У меня хорошо получается. Пока анестезиолог придёт, я пару раз кольнуть успею. А вдруг удастся? Ничем же не рискуем. Вы не возражаете? — это уже к больному. Тот согласно кивает. — Вот и ладушки. Только можно заменить всё это хозяйство? Оно уже не очень...
Рыженькая обернулась быстро.
— Нет, не так. Просто положите мне руку на коленку ладошкой вниз. Не бойтесь. Как вас по имени-отчеству? Иван Семёнович. Оч хорошо. Вы не на меня, вы на сестричку смотрите, она гораздо красивее.
Совсем не сильно затягиваю резинку на плече и медленно поглаживаю предплечье. На тыльной стороне вены не видны, но тут они толще, а жира и отёков меньше. Только нужно доверять осязанию. Вот они, родимые. Так, спиртиком.
— Иван Семёныч, я счас очень больно уколю, потерпите. Опс! Что, не больно совсем?! Ну, простите гада, сбрехнул. Вот приклеим всё это хозяйство понадёжнее, и дальше будете спокойненько лечиться. Всё, всего вам хорошего. Увидимся ещё.
И уже в коридоре:
— Простите, доктор, забыл представиться. Марк. Марк Штерн. А к вам как обращаться?
— Элла Феликсовна. По фамилии Страшножвидецкая. Что, напугала?
— Ничуть. У вас такой лёгкий, приятный акцент. Совсем как у Эдиты Пьехи. Но, пшепрошем пани, ваши предки сильно согрешили, наградив таку пьенькну пани столь неподходящей фамилией.
— Ага, комплименты умеешь делать. Шустрый парень. А что ты ещё умеешь? На обход со мной пойдёшь? Тебе не всё равно, с кем?
— Только с вами, ясновельможна. Увидите, что ещё умею.
Нравятся мне такие женщины: очень красивые и очень умные, и знающие. У подавляющего большинства мужчин это сочетание вызывает когнитивный диссонанс, и они шарахаются от таких или, если бечь некуда, петушатся, изо всех своих дурацких сил стараются подавить своим отсутствующим превосходством. После обхода, в ординаторской я сложил на свободный стол все истории её больных и уселся записывать дневники. А ей предложил отдохнуть, пока я буду заниматься этим нудным, хотя и необходимым, делом.
— Строчишь, как пулемёт. Что ты там сочиняешь? Ничего же за мной не записывал. Понапишешь ерунды, а мне потом отдуваться.
— А мне не надо записывать. Я всё помню. И листы назначений сразу заполняю. Вы только подпишите потом, а то моя подпись пока недействительна. Вот эти четыре готовы. Проверьте, пожалуйста. Найдёте ошибки, пойду в котельную.
— Это ещё зачем?
— За пеплом. Голову посыпать.
Другие врачи, занимавшиеся тем же делом, не отвлекаясь от нашего разговора, рассмеялись.
— Какого вы, Элла Феликсовна, себе помощника отхватили! За словом в карман не лезет. И такой красавчик весь из себя.
— Котельная отменяется, — сказала она, оценив мою работу. — Всё абсолютно правильно. Давай, заполняй все остальные. Вернусь, проверю и подпишу. Пойду посмотрю ещё раз Зелепукину и Фролову. Вдруг ты и там не ошибся? Хм, четверокурсничек...
На следующий день выяснилось, что не ошибся. Обеих больных уже перевели в гинекологию. Я снова пошёл на обход с Эллой Феликсовной. Толстяку уже заметно полегчало. Дышал он спокойнее и хрипел тише. Кислородная маска была ещё, но уже не на лице, а на подушке. Помог девочкам перестелить. Просто взял его на руки и подержал, пока две сестрички быстренько сменили простыню. Потом проделал то же самое ещё с парой лежачих. Без криков и скандала взял анализы крови у нескольких капризных пациентов. Это перед молоденькими сёстрами можно повыпендриваться на пустом месте, а с двухметровым и, ну очень хмурым, амбалом, воленс ноленс, приходится соблюдать приличия. Тем более, что действительно не больно и почему-то спать очень хочется. Элла Феликсовна с живейшим интересом наблюдала за моими действиями, но вопросов почти не задавала.
По окончании дел праведных мы стояли на балконе, где тоже было жарко, но хоть воздух был чистым, не больничным, и с озера долетал слабый освежающий ветерок. Я откровенно любовался её красивым, умным лицом и прекрасной фигурой в хорошо подогнанном халате. Редкость среди медиков, обычно не обращающих внимания на бесформенность своих белых одежд.
— Странный ты студент. Необычный четверокурсник.
— Уже пяти, — вставил я с самым гордым выражением. Она отмахнулась.
— Да ладно тебе. Я серьёзно. После четвертого курса обращаешься с больными, как врач с солидным стажем. Пожалуй, лучше многих. Знаешь больше, чем положено даже такому хроническому отличнику. Я с твоими одногруппниками болтала. Такого понарассказали! Вот тебе твоя фамилия подходит. (Я почтительнейше поклонился.) Клоун. С фигурой борца и руками пианиста.
— Массажиста. Хотя и на пианино тоже немножко умею. Я тогда слегка соврал. Действительно, несколько лет работаю, только не медбратом - когда бы я успел? - а массажистом в профилактории химкомбината. Не надо было пугать такого тяжёлого больного практикантом.
— А гипноз?
— Заметили? От мамы. Она заведует отделением в психушке и читает курс психиатрии в институте. Маргарита Львовна Штерн. Её все знают.
— Выходит, не все. Я же из Станислава. Там же и училась. Кстати, откуда у тебя польский?
— Только несколько слов и выражений. Как-то сутки ехал в одном в одном купе с поляком, Ежи Збройским. Хороший парень. Всю дорогу травил польские анекдоты. На очень приличном русском языке. Но иногда переходил на польский. В оригинале смешнее. А я узнал и выучил немножко, чтобы при случае соблазнять полек млодых на их родном языке.
— Чем сейчас и занимаешься.
Я страшно огорчился.
— Неужели безуспешно?
— Как тебе сказать... Посмотрим. Расскажи парочку из того, что запомнил. Сейчас английский юмор в моде, а польских анекдотов я давно не слышала.
На балконе возник доктор Бродский. За ним ещё несколько врачей и ребята из нашей группы. Пришлось выступать перед публикой. Не впервой.
— Дама дала в газете брачное объявление: "Желаю выйти замуж. Жених должен быть таким обаятельным, как танкист Янек, и таким умным, как пёс Шарик". Через некоторое время звонят по объявлению: "Вельможна пани, разрешите с вами познакомиться. Сразу скажу, что я не такой обаятельный, как танкист Янек. И я далеко не такой умный, как пёс Шарик. Но у меня один предмет больше, чем пушка у танка! Так, записываю адрес.".
Публика покатилась со смеху. Только Мария Давыдовна, вечно кислая невзрачная девушка постбальзаковского возраста, перехватив направленный на меня взгляд Эллы Феликсовны, желчно вопросила:
— Это ты сейчас про себя рассказал?
— Совершенно верно, дорогая Мария Давыдовна. Но исключительно в том, что касается пёсика Шарика.
Несколько секунд на усвоение, и новый взрыв смеха. Вот так, милая. Бац-бац, и мимо. А теперь я стрельну.
— Разговор ночью в спальне.
"Пани есть первачка?"
"То так."
"А цож пани не шкворчит?"
"Ах, пан вже вжучив?! Ой! Ох-ах-ох!"
— Кстати, рабочий день кончился пять минут назад. Можно идти? Я сразу отсюда на пляж. Такая жарища! Как это люди в Африке живут?
— Марк, имей в виду, там сейчас народу будет больше, чем песка. И за пивом не достоишься.
Хитрая физиономия доктора Бродского читается безошибочно. Спасибо за поддержку, дорогой!
— Я мечтаю окунуться в воду, а не в пиво. И без грибков и лежанок отлично обойдусь. Пройду подальше, вон туда, за мысок. Там народу вроде бы ни души, песчаный берег и тень от деревьев. Самое, что надо. Ладно, я побежал. До завтра. До зобаченя вкрутце!
Оказалось, что с выбором места я не прогадал. Маленький скалистый мыс, далеко выступающий в в воду надёжно отсекал шумную суету городского пляжа. Крупный красноватый песок, деревья над самой водой, очень холодной у самого берега, не смотря на жару — благодать! Поплавал минут десять, пару раз нырнул. Уже метрах в десяти от берега дно круто обрывалось в глубину: как-никак бывший карьер. Выбрался из воды и растянулся на песке в блаженной расслабухе.
Она пришла тем же путём, что и я: просто перебралась через довольно высокий каменный барьер напрямик и спрыгнула на песок рядом со мной. Цвета хаки короткое сафари, матерчатая сумка на плече. Очаровашка!
— Шикарно смотришься сверху, соня. Неужели так долго ждал свою даму, что успел уснуть? Хорош кавалер!
— Помочь пани раздеться?
— Помоги. Ты так старательно раздевал меня глазами, что заслужил теперь это делать руками.
Я пристроил её сумку на обломанную ветку ивы. Туда же отправилось платье.
— Забыла дома купальник. Как ты думаешь, здесь и так сойдёт?
Она осталась в маленьких ажурных полупрозрачных трусиках телесного цвета и в таком же почти несуществующем лифчике, который не столько скрывал, сколько очень заманчиво приоткрывал очаровательную грудь.
— Мы в восхищении! Прекраснейшая пани дозволит погрузить себя в водоём?
Не дожидаясь ответа, подхватил её на руки и с разбегу ринулся в воду. Весёлый визг, хохот и вообще, полнейшая эйфория. Плавала она отлично. Метрах в двадцати от берега вода уже была тёплой. Мы ныряли, гонялись друг за другом, целовались в воде. Веселились от души. Намокнув, её и без того чисто символические одежды стали совершенно прозрачными, что здорово прибавило мне удовольствия. Вдоволь накувыркавшись, мы решили погреться на песке, пока солнце не опустилось слишком низко.
— Ну, хватит, не безобразничай! — она старалась вернуть на место то правую, то левую половинку своего пляжного туалета. — Что ты вытворяешь?
— Сейчас ты высохнешь, и ничего не будет видно. Матка боска, я не увижу такую красу!
— Насмотришься ещё, эстет. Нет, ну мне надоело! Делай, как хочешь. А знаешь, ты нашёл очень правильное место. Здесь под водой несколько холодных ключей. Уже за сто метров от камней кончается тёплая вода у берега. Поэтому сюда никто не ходит. А ещё через камни эти надо перелезать. Ние ма жадних глУпцов.
— Очень полезная информация. Мммм, никак не могу решить, какая вкуснее: правая или левая?
И попытался стянуть с неё трусики.
— Вот это совсем не надо! Ну что ты, глупый. Я просто не люблю это на песке. Неприятно, когда он туда попадает. Давай оденемся и пойдём ко мне.
— Тогда придётся ещё сохнуть. А то пойдём как обписанные.
— Зачем? Всё мокрое понесём в сумке. Ну, быстрее. Ты уже начал меня раздевать. Продолжи. Так. И твои плавки давай сюда. С платьем я сама управлюсь.
Она залилась смехом.
— У тебя, и вправду, пушка, как у танка! Очень хочется попробовать, как она стреляет. Побежали!
В её уютной маленькой квартирке мы порезвились на славу. Чёрт побери, как здорово иногда уйти от роли Учителя и просто любить красивую, здоровую, озорную женщину; угадывать и исполнять её желания и позволять ей исполнять свои, не сдерживаясь и не отказывая себе ни в чём! Мы расстались почти в десять вечера. С большим сожалением, но я ясно понимал, что в таком маленьком городке не стоит привлекать к себе ненужного внимания. Стоит кому-то заметить нас, вместе выходящими рано утром из её дома, как сплетня полетит быстрее звука. Да, мы взрослые свободные люди, но кругом столько несвободных от душевной гадости, всегда готовых бескорыстно и добросовестно извалять в ней ближних и дальних своих, что не считаться с ними невозможно. Просто зачем осложнять ей жизнь? Вернувшись в общагу в одиннадцатом часу, ответил на вопрос Серёги неопровергаемым "На танцульках в парке. Там такие девочки! Рекомендую.", и погрузился в крепкий и здоровый.
У моряков и лётчиков это называется "взять погоду". Мама с Олей крепко вдолбили мне в голову: пришёл куда-то, где больше одного человека - начинай с интегральной оценки психологической ауры и с её детализации. и не вступай в общение до того, как осмыслишь полученную информацию. В общем, это не что-то такое особенное и знакомо каждому. Зашёл в комнату и сразу чувствуешь - что-то стряслось. Или идёшь мимо группы явно опасных личностей, но тревоги или страха нет. Чувствуешь - ты им безразличен. Это заложено глубоко в наших инстинктах, пришло от предков. Но работает инстинктивный оценщик в подсознании грубо и примитивно. Все умеют ходить, но только очень некоторые — по канату.
Войдя без пяти восемь в ординаторскую, два диссонирующих момента я сразу выделил на фоне общего напряжения и нервозности: два очага скрытой агрессии. Один был явно против меня. А вот второй... Элла слегка раздражена и немного опечалена. Всего-навсего. Но агрессия - и очень неслабая - нацелена именно на неё с двух сторон, причём конфликт уже состоялся и ещё не завершён. Анна Давыдовна. Тут прозрачно. Бродский. Пётр Иванович, да за что же ты взъелся на эту милую женщину? Предстоит генеральный обход — это с участием начмеда. Такое мероприятие всегда сопровождается раздачей плюх и плюшек, причём первые обычно преобладают. Понятно, что народ слегка психует. Пока я студент, меня всё это никак не касается, но посмотреть такой спектакль изнутри интересно. Как там говорит заморский посол в сцене публичной казни из "Анжелики": "Спектакулум — то, что привлекает внимание" Начальство задерживается. Есть время сыграть психотерапевтический этюд.
— Здравствуйте! (это ко всем). Здравствуйте, Элла Феликсовна! Можно я сегодня опять с вами? Мне вчера очень понравилось.
Смотрел я в этот момент на Бродского. Он. Его взгляд на Эллу устранил даже малейшие сомнения. Сейчас ещё уточню кое-что, и мало тебе не покажется, шпынь ненадобный.
—Пётр Иванович, здравствуйте! — протягивая сразу обе руки для приветствия. Есть физический контакт. — Спасибо за добрый совет. Там было так хорошо! Огромное вам спасибо! Ой, какая оригинальная штука!
Извлёк из его нагрудного кармана металлическую сувенирную шариковую ручку в форме здоровенного хромированного гвоздя. Сохраняя приветливое выражение, поднял сей предмет на уровень его лица и тремя пальцами, движением, которым обычно ломают карандаш, медленно согнул под прямым углом и положил на стол. Товарищ побледнел по двум причинам: зрительной и осязательной. Осознал, что одна его лапка по-прежнему в моей левой руке.
— Ох ты, боже мой, какая это оказалась непрочная вещь! Теперь я ваш должник. Простите пожалуйста. Не беспокойтесь, долги я всегда возвращаю с процентами. Да, вы мне хотели что-то рассказать. Здесь так шумно. Выйдем, пока начальство не спешит.
Мы вышли в безлюдный в этот момент коридор.
— Хотите, дорогой Пётр Иванович, побеседовать о таких выдающихся исторических личностях, как Азеф и святой отец Гапон? Их судьба настолько поучительна, что всегда следует о ней помнить. Нет? А о чём вы мне хотели поведать? Что такого особенного, о чем я, по своей юношеской наивности, не догадываюсь? Давайте я сам всё расскажу, и вам не придётся выблёвывать гадости о женщине, которая этого совершенно не заслуживает.
— Марк, дорогой мой, я только хотел тебя предупредить!
— С чего это я вам стал так дорог после удачной, как вам кажется, провокации с пляжем, которую я сдуру принял за дружескую поддержку? Таким грязным мерзавцам как вы, милейший Пётр, да ещё Иванович, нестерпимы женщины красивые, умные, чистые и, главное, сильные и независимые, которые строят свои отношения с мужчинами исключительно по собственной воле и собственному разумению. И недоступные таким пузатым ядовитым сморчкам. Она вас распопёрла с треском, благородного отца семейства. А вашу супругу уведомила с какого разу? Дайте подумать. С четвертого. Удивительно добрая женщина, до последнего вас жалела, пока вы своими вонючими щупальцами к ней не полезли. Тьфу!
— Ты... Ты... как ты...
— Левая рука парализована. Сможешь её поднять, только когда начмед с тобой лично поздоровается. На месяц — импотент. Всё. Пошли в ординаторскую, а то люди невесть что подумают. И вон, уже весь кагал начальников на подходе.
Когда мы вернулись, мужская часть коллектива увлечённо старалась разогнуть злополучную авторучку. И понять, с помощью какого трюка она была согнута. Ну-ну, старайтесь, товарищи.
Элла тихонько спросила:
— Что он тебе обо мне рассказал?
— Что ты прелесть.
Продолжил, не особо понижая голос.
— А что мог рассказать о красавице польке Пейсах Исакович, до профузного поноса стыдящийся своего еврейства, как вы думаете, дорогая Элла Феликсовна? Идёмте. Я с вами.
Процессия генерального обхода — это действительно спектакулум, достойный отдельного повествования. Кто видел, тот понимает. Но я напрасно был уверен, что присутствую там только в роли наблюдателя.
— А вот и наш Иван Семёнович! Вот до чего способны довести наши детки лучшего завуча района. Да уж. Но мы все очень рады, что вам уже лучше. Иван Семёнович, может у вас есть какие-то особые пожелания или замечания, или жалобы? Всегда рад вам помочь.
— Спасибо, Виталий Сергеевич, на добром слове. Ваши коллеги меня прямо с того света вытащили. Какие тут могут быть жалобы, упаси боже! А вот просьба есть. Если можно, конечно. Вон тот высокий молодой человек, практикант. Он прикидывается медбратом, чтобы меня не пугать. Но бывалого учителя не проведёшь...
— Ну-ка, идите сюда, юноша, не прячьтесь там. Представьтесь, пожалуйста!
— Штерн. Марк Штерн.
— Штерн, Штерн... Мне уже говорили. — он усмехнулся, а физиономия Бродского аж засияла от великого злорадства. — Так в чём, собственно, заключается ваша просьба, Иван Семенович?
— В том, чтобы все уколы и прочие процедуры, если понадобятся, мне делал только он, и никто другой. Другому никому не дамся, по крайней мере, пока он здесь, в вашей больнице. Если надо, напишу официальное заявление. Руки у парня приделаны очень правильно. Вы можете пойти мне навстречу?
— Безусловно, Иван Семёнович, безусловно! Прямо с этого момента. Отметьте это себе, Анна Григорьевна. (Это он к заведующей.) А вы, товарищ Штерн, зайдите ко мне, ну... скажем в пол второго.
Торжественное шествие двинулось дальше. Ура! Работаем!
— Заходи, не стесняйся. Садись. Вопросы есть?
— Только один: чем я буду заниматься вместо программы практики?
— Мне уже доложили, что ты редкостно самоуверенный нахал. Но самоуверенный не на пустом месте. Совсем забыл о том разговоре, дел невпроворот. Это правда, что ты экстрасенс?
— Неправда. Экстрасенсов не бывает, а те, что есть — просто ловкие жулики. Что правда, я умею больше, чем средний человек. Но тут никаких чудес: особые тренировки, методики. Некоторые врождённые способности. Но никакой мистики и чудес. Всё в рамках материализма.
— Да? И как это ты в рамках материализма искалечил доктора Бродского?
— Даже пальцем не тронул.
— И слава богу. Видел я уже эту авторучку. Но всё-таки, между нами, что ты с ним учудил?
— Этот подонок оскорбил достойную женщину. Мало того, организовал настоящую травлю. Это после того, как она отказала ему в интимной близости и пожаловалась его жене на его домогательства. Когда захотите, поздоровайтесь с ним за руку. У него сразу всё пройдёт.
— Внушение с отсроченным условием. Знакомо. Когда-то увлекался такими вещами. Ладно, когда захочу.
Он помолчал.
— Элла Феликсовна действительно очень красивая женщина и, не отрицаю, очень хороший врач. Не удивительно, что она тебя очаровала, и ты, как юный рыцарь, кинулся её защищать. Но прости, не спеши нападать на меня; тем более, что со мной этот фокус не выйдет. Ты у неё далеко не первый. Она известна, скажем так, очень свободными отношениями с мужчинами. С ней уже беседовали на эту тему.
— Виталий Сергеевич, можно уточнить? Свободными отношениями со свободными мужчинами? Или она соблазняет благородных отцов семей? Отбивает чужих любовников? Так ведь нет же, правда! Тут ключевое слово - свободная. Она свободна в отношениях со свободными мужчинами. Это её право. Уверен, что она не изменяет и не предаёт. Она просто реализует своё либидо, свой сексуальный темперамент. Кому от этого плохо? Она ведёт себя свободно, не нарушая свободы других. Это открытая, честная и чистая свобода. Чистота и честность осуждаются? А знаете, да. Осуждаются. Осуждаются и всячески изничтожаются грязными лжецами. Вот им это нестерпимо. Они в них видят, как зеркале, свою собственную гнусность, похабные свиные хари. Им это некомфортно.
Я перевёл дух. Начмед слушал внимательно, не перебивал.
— Кто распускает сплетни, кто устроил и поддерживает травлю этой достойной - я настаиваю на этом определении - достойной женщины? Развратный папаша троих детей, который из чужих постелей не вылазит, а на дежурствах сестёр трахает. А тут его, кота блудливого, ткнули мордой в его собственное дерьмо и откинули брезгливым пинком. Да можно ль такое стерпеть?! И старая дева - лесбиянка. Это её особенность от природы. Даже не недостаток. Просто вариант сексуальности. Но она-то по своему невежеству считает себя великой грешницей, сама собой брезгает. Красотой бог обделил, характер паскудный, поэтому любовницу себе найти не может... Даже жалко её, убогую.
— Марк, сколько тебе лет? Ладно, вопрос риторический. (Он вздохнул, задумался.) У Маргариты Львовны вырос хороший сын, так ей и передай. А ты, вот что: делай всё, что умеешь. В месте и времени не ограничиваю. Наш массажист в отпуске. Возьмешься? Только без фанатизма. Меня предупредили, что ты трудоголик. Вообще-то у нас тут на практике студенты отдыхают. Завтра общая конференция, так я завов проинформирую.
— Я могу идти, Виталий Сергеевич?
— Руки зачесались? Иди. Только помни: я сказал - без фанатизма!
"Жизнь украшается любовью. Я взял примером жизнь слоновью." Эта строчка Михалкова уже битый час крутилась у меня в голове, пока я, уже взмокши от напряжения, трудился в кабинете лечебного массажа над тушей сто тридцати килограммовой бабищи, пытаясь разблокировать её поясничные позвонки. Нет, я понимаю: гипотиреоз, диабет, гипертония, сексуальная депривация. Ага, обмен веществ такой. Жрёшь, как прорва, "вот самую капельку". Хотя, тут порочный круг. Дефицит эмоций от недотраханности компенсируешь едой. Тебе сладости мало, вот сладости и лопаешь. Но кто ж на тебя на такую-то...? Господи, помилуй! Стоп! А если этот её блок оттуда же? Куда горячо любящий муж просто не достаёт в единственно приемлемой для вас, шибко нравственных, бутербродной позиции. Подсознание выдаёт отмазку: при такой боли в пояснице - не до секса. А жрать эта боль не мешает. А ведь есть варианты для таких случаев. Я мысленно пролистал "Камасутру". Точно, есть. Но не мне же её... Технически - без проблем. Но ведь не поймут-с, провинция-с!
— Галина Ивановна! Чтоб завтра в это время ваш муж был здесь предо мной, как лист перед травой! Учить вас обоих буду уму-разуму. И ещё кое-чему.
Держись, Учитель, крепись, Учитель... Господи, куда ж я лезу?!
(Глава получилась длинной, поэтому следует продолжение главы.)