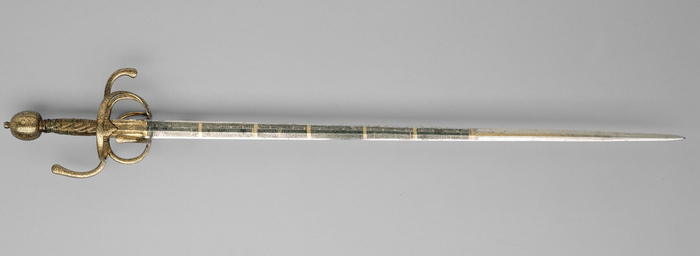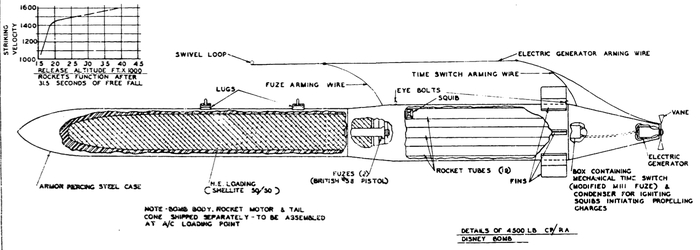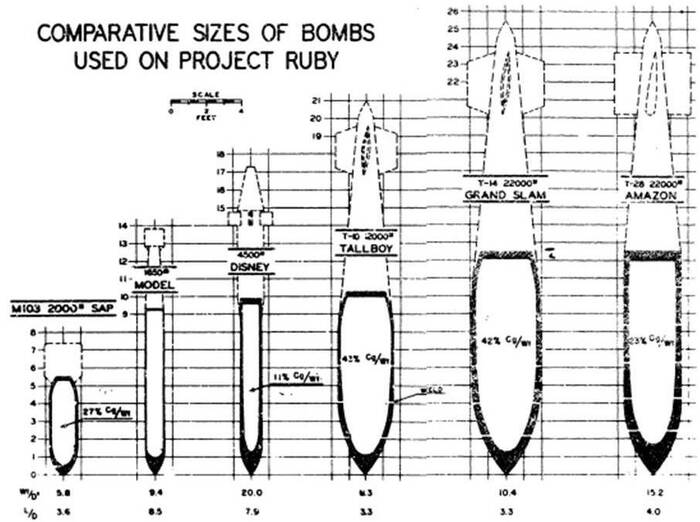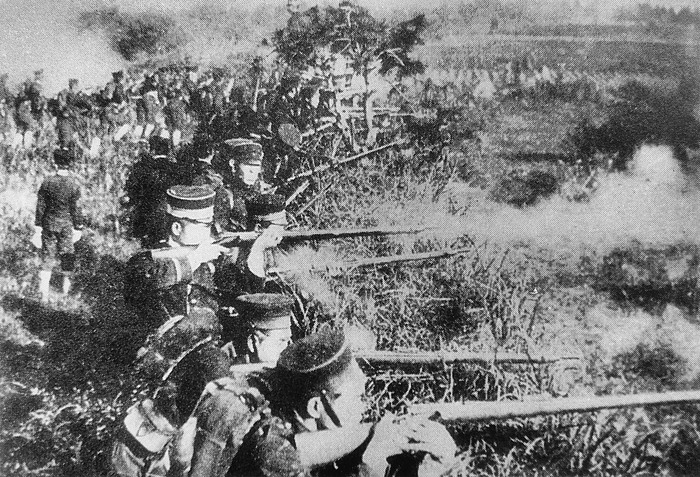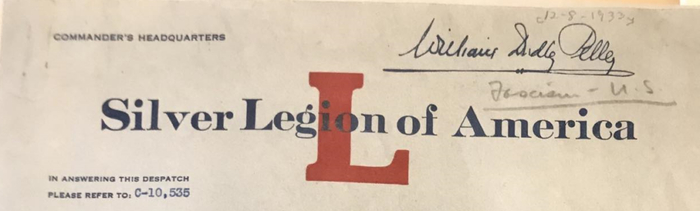Лига историков
Диснеевская бомба: забытая технология, вдохновлённая мультфильмом
Первый раз встретившись в видео о бункерах Третьего рейха, название "Диснеевские бомбы" вызвало у меня неподдельный интерес и желание разобраться с ним. Что за "Диснеевские бомбы"? Почему так названы, что из себя представляли, почему я раньше о них не слышал? Именно об этом и пойдет речь в нашем сегодняшнем видео. Ниже есть текстовый вариант с картинками.
Во время Второй мировой войны перед авиацией союзников встал вопрос разрушения укрепленных бетонных сооружений. Например бункеры подводных лодок Кригсмарине, защищённые 5-метровыми железобетонными перекрытиями с полыми промежутками для ослабления ударной взрывной волны, были практически непроницаемы для бомб обычного калибра. Существовавшие в то время сверхтяжёлые бомбы Tallboy и Grand Slam имели некоторые недостатки в практическом применении. Для разгона до сверхзвуковой скорости бомбу требовалось сбрасывать с большой высоты, что усложняло бомбометание по точечным целям, снижая вероятность их поражения. Лишь немногие специально подготовленные экипажи могли эффективно применять такие бомбы, добиваясь прямых попаданий в цели. К тому же большие и тяжёлые бомбы требовали применения тяжёлых бомбардировщиков, количество которых было ограничено.
В поисках альтернативы американцы обратились к идее разгона бомбы путём ускорения падения бомб ракетным двигателем. Расчёты показывали, что такая ракето-бомба может иметь пробивную способность, сравнимую с «Tallboy», при намного меньших габаритах и массе и меньшей высоте сброса, что, в свою очередь, означало, что бомба сможет применяться с большей точностью и будет доступна для боевого применения большему спектру бомбардировщиков.
Согласно легенде, идея возникла после того, как группа офицеров Королевского флота увидела похожую, но вымышленную бомбу, изображенную в анимационном пропагандистском фильме Уолта Диснея 1943 года «Победа через авиацию», и впоследствии оружию дали прозвище «Диснеевская бомба». Бомба была изобретена британским военно-морским офицером, капитаном Эдвардом Терреллом, хотя бомба применялась исключительно ВВС США.
Самолеты Boeing B-17 «Летающие крепости» несли бомбы парами. По одной бомбе подвешивалось под каждым крылом, поскольку они были слишком длинными для размещения в бомбоотсеке B-17.
Ракетная бомба имела длину чуть более 5 метров при диаметре 280 мм и массе 2000 кг. Она состояла из трёх секций. Первая - головная - представляла собой проникающую боевую часть из особо прочной стали с зарядом из 230 кг взрывчатки. Вторая секция бомбы представляла собой разгонный твердотопливный ракетный двигатель, состоявший из 19 отдельных пороховых шашек от 3-дюймовых неуправляемых ракет. Третья секция бомбы включала стабилизаторы и механизм зажигания, включающий все двигатели одновременно по сигналу от барометрического датчика и питаемый от турбогенератора.
Для точного попадания бомба должна была быть сброшена с высоты до 6100 метров. После сброса бомба падала около 30 секунд, пока не достигала расчётной высоты. Механизм зажигания активизировал двигатели, одновременно сбрасывая хвостовую секцию. Горение топлива в двигателе продолжалось 3 секунды, за которые он разгонял бомбу до скорости около 440 м/с. Расчётная пробиваемость составляла около 5 м.
На этом снимке видны следы от ракетных ускорителей 4-х бомб сбрасываемых на порт Эймёйден в Нидерландах
Испытания бомб Диснея начались в начале 1945 года. Бомбы изначально сбрасывались на бомбардировочном полигоне недалеко от Саутгемптона, а затем испытательные сбросы были проведены на бункер Эперлек на севере Франции. Было использовано четыре бомбы, перевозимые двумя B-17, и два попадания пришлись по цели. Полученные в результате повреждения были признаны удовлетворительными наблюдателями на земле.
Первая боевая атака Диснеевскими бомбами была направлена на порт Эймёйден в Нидерландах, который немцы использовали для размещения их Schnellboote (быстрых торпедных катеров) и сверхмалых подводных лодок Biber. Днем торпедные катера находились в укрытиях, защищаясь от атак с воздуха, а ночью выходили в море для атак на суда союзников. В августе 1944 года бункеры порта атаковали с применением 53-х пятитонных бомб Tallboy и множества обычных бомб меньшего калибра. 10 февраля 1945 года девять самолетов 92-й бомбардировочной группы атаковали бункер 18 диснеевскими бомбами. Бетон был пробит, но бункеры были пусты во время атаки. И бункер снова был атакован 10 самолётами 14 марта.
30 марта 36 самолетов 8-й воздушной армии США, атаковали бункер подводных лодок «Валентин» Диснеевскими бомбами. Крыша «Валентина» толщиной 4,5 метра уже была повреждена двумя 10-тонными бомбами «Гранд Слэм», сброшенными Королевскими ВВС тремя днями ранее. Во время атаки 8-й воздушной армии было запущено более шестидесяти «Диснеев», но только одна достигла цели, не принеся существенного эффекта, хотя сооружения вокруг бункера получили значительный ущерб.
4 апреля 1945 года 24 бомбардировщика B-17 атаковали укреплённые цели в Гамбурге. Цель была скрыта облаками, поэтому для сброса бомб использовалось радиолокационное наведение. Следующая миссия в мае 1945 года была отменена. Всего до конца войны было сброшено 158 бомб.
Disney bomb была настоящей технической инновацией, предвосхитившей современные "умные" бомбы. Но её подводили недостатки: надежность зажигания ракетного ускорителя была признана неудовлетворительной, с частотой отказов около 37% во время испытаний, кроме того, некоторые бомбы распадались при ударе о цель из-за дефектов в стальном корпусе. Также минусом конструкции была сравнительно небольшая боевая часть. После войны бомбу не стали производить массово - она осталась экспериментом. Именно поэтому о ней мало кто знает.
Пищевые концентраты в СССР
1937 год, СССР, газета "Вечерняя Москва", 1937г., № 170, 27 июля
ДЛЯ ЭКСПЕДИЦИЙ И КОЛХОЗОВ
РАЗВЕРНУТЬ ПРОИЗВОДСТВО КОНЦЕНТРАТОВ
Институт инженеров общественного питания приобрел широкую известность своими работами над пищевыми концентратами для арктических экспедиций и особенно для зимовщиков Северного полюса.
Кроме арктических экспедиций в институт сейчас обращаются геологи, отправляющиеся на изыскания, группы работников треста «Золоторазведка», выезжающие в отдаленные местности на поиски золота, экскурсионные организации, альпинисты и т. д.
Но особенно много запросов поступает от колхозов и МТС, которые, оказывается, крайне заинтересовались концентратами: с помощью концентратов можно быстро и без всяких хлопот приготовить пищу во время полевых работ.
Запросы самого различного характера.
Одни колхозы, желая закупить концентраты партиями, спрашивают, где их можно достать. Других интересует вопрос, не могут ли они сами наладить у себя производство концентратов, для чего просят командировать к ним инструктора или же предлагают выслать из колхозов в Москву нескольких людей для изучения технологического процесса и т. д.
Само собой разумеется, что ни институт, ни существующие предприятия пищевой промышленности, изготовляющие концентраты, еще не в состоянии удовлетворить полностью растущие потребности в них.
Необходимо при этом учесть также и то, что дачники, да пожалуй и многие живущие постоянно в городах, охотно пользовались бы питательными, вкусными и недорогими концентратами.
Встает вопрос о резком расширении производства концентратов.
Институт инженеров общественного питания имеет большой опыт в изготовлении действительно питательных и вкусных концентратов.
Нужно только развернуть производство концентратов в большем объеме, чем сейчас. Дело за Наркомпищепромом и Наркомвнуторгом.
М. Беляков, директор Института инженеров общественного питания.
[В газете стоит подпись Ф. Беляков, ошибочна здесь буква Ф.
Правильно: М, потому что Михаил Беляков был директором Института инженеров общественного питания.
Иван Дмитриевич Папанин, советский исследователь Арктики, писал: "И вот я пошел к М. Белякову, директору института инженеров общественного питания, с письмом: «Будем вам очень благодарны, если вы заготовите для нас хорошие обеды на полтора года в самой дальней точке Арктики». Мы просили, чтобы пища была высокой калорийности, чтобы в концентратах было достаточно витаминов, предохраняющих от цинги. Продукты должны сохранять в течение всего дрейфа свои питательные и вкусовые качества, несмотря на то, что на льдине высокая влажность и низкие температуры."
Папанин И.Д. Лед и пламень. — М.: Политиздат, 1977. — 416 с. с ил. Тираж 300.000 экз.
ВОЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА --[ Мемуары ]-- Папанин И.Д. Лед и пламень
24 мая 1937 года, когда самолеты с папанинцами как раз подлетали к будущему месту дрейфа, в «Известиях» вышел материал «Меню папанинской группы». Директор Института инженеров общественного питания Михаил Беляков рассказал, как почти за год до этого по просьбе начальника экспедиции его сотрудники приступили к разработке специального пайка.
Как разрабатывался рацион знаменитой папанинской экспедиции | Статьи | Известия
Меню папанинской группы, "Известия",Известия1937, № 121, 24 мая, С.2
Королевский каприз и голова министра: Генрих VIII, Анна Клевская и цена одной ошибки
Томас Кромвель, этот безжалостный архитектор английской Реформации, правая рука Генриха VIII, человек, который не моргнув глазом отправил на плаху не одну знатную голову и перекроил религиозную карту Англии, оказался на удивление никудышным сватом. И эта, казалось бы, незначительная оплошность в карьере мастера политических интриг стоила ему не только положения, но и самой жизни, лишний раз доказав, что при капризном монархе путь от всесильного министра до государственного преступника может быть удручающе коротким. В общем, сегодня мы поговорим о том, как в XVI веке работал королевский Тиндер, и какова порой была цена свайпа.
Кромвель-сват
После смерти третьей супруги, Джейн Сеймур, подарившей королю долгожданного наследника Эдуарда, но угасшей от родильной горячки в октябре 1537 года, Генрих VIII, несмотря на репутацию женолюба, в новый брак не спешил. Трижды он женился по любви, или, по крайней мере, по сильному увлечению, и каждый раз финал был далёк от сказочного. Екатерина Арагонская – развод, сотрясший всю Европу и порвавший вековые связи с Римом. Анна Болейн – страсть, интриги и, как итог, эшафот. Джейн Сеймур – тихая гавань, оказавшаяся слишком недолговечной. Теперь же, когда династический вопрос был отчасти решён, на первый план вышли соображения сугубо политические. Томас Кромвель, к тому времени уже лорд-хранитель Малой печати и вице-регент по церковным делам, видел в новом браке короля прежде всего инструмент для укрепления позиций Англии на международной арене.
Европа середины XVI века представляла собой кипящий котёл религиозных и политических противоречий. Император Священной Римской империи Карл V и французский король Франциск I, вечные соперники, то заключали хрупкие перемирия, то вновь вцеплялись друг другу в глотку. Папский престол, оскорблённый английской Реформацией и тем, что Генрих провозгласил себя главой англиканской церкви, метал громы и молнии, призывая католических монархов к крестовому походу против еретика-короля. В этой сложной игре Англии был нужен надёжный союзник, и Кромвель обратил свой взор на протестантских князей Германии, объединённых в Шмалькальденский союз. Брак с одной из немецких принцесс мог бы не только обеспечить военную поддержку в случае вторжения, но и легитимизировать разрыв Англии с Римом в глазах протестантского мира. Поиск подходящей кандидатуры был делом непростым. Требовалась девица не только знатного происхождения и правильной веры, но и способная, по крайней мере, внешне, приглянуться стареющему и всё более раздражительному Генриху.
Выбор Кромвеля пал на Анну, двадцатичетырёхлетнюю дочь Иоганна III, герцога Клевского – небольшого, но стратегически важного владения на Рейне. Герцогство Клевское, наряду с Юлихом, Бергом, Марком и Равенсбергом, представляло собой значительную территорию, и его правитель занимал умеренную позицию в религиозных спорах, что делало его приемлемым союзником как для лютеран, так и для тех, кто, подобно Генриху, искал свой, особый путь в церковных реформах. К тому же, сестра Анны, Сибилла, была замужем за курфюрстом Саксонским, одним из лидеров Шмалькальденского союза. Кромвель развернул бурную деятельность. Английские послы, Николас Уоттон и Ричард Берд, были отправлены ко двору герцога Клевского с подробными инструкциями. Главным аргументом в пользу Анны, помимо политических выгод, стала её репутация скромной и добродетельной девицы. Художнику Гансу Гольбейну Младшему, придворному живописцу Генриха, было поручено написать портрет потенциальной невесты. Гольбейн, мастер льстивой, но не слишком искажающей правду кисти, изобразил Анну в соответствии с канонами красоты того времени, хотя и не преминул скрыть некоторые недостатки, например, следы от перенесённой оспы, чуть заметные на её лице. Портрет, доставленный в Англию, вкупе с восторженными отзывами дипломатов о красоте и грации принцессы, произвёл на Генриха благоприятное впечатление. Король, никогда не видевший Анну воочию, дал своё согласие на брак. Договор был подписан 4 октября 1539 года. Кромвель мог торжествовать: сложная дипломатическая партия, казалось, была выиграна. Он и представить себе не мог, что эта победа обернётся для него началом конца.
«Она мне не нравится!»
Генрих VIII, несмотря на свои сорок восемь лет, прогрессирующий артрит, подагру, дурно пахнущие трофические язвы на ногах и внушительный вес, переваливший, по некоторым оценкам, за 130 килограммов, всё ещё считал себя неотразимым мужчиной и тонким ценителем женской красоты. Он с нетерпением ожидал прибытия своей новой невесты, строя планы, как он сам выразился, «взрастить любовь». Когда же флотилия с Анной Клевской 1 января 1540 года бросила якорь в Диле, графство Кент, нетерпеливый монарх, переодевшись и захватив с собой лишь нескольких приближённых, тайно поспешил в Рочестер, где остановилась принцесса, чтобы устроить ей романтический сюрприз. Сюрприз, однако, ждал самого короля.
Увидев Анну без прикрас, без флёра придворной лести и смягчающего эффекта гольбейновского портрета, Генрих, по свидетельствам очевидцев, буквально побледнел от разочарования. «Она мне не нравится!» – зловеще прорычал он, выйдя из покоев принцессы. Эта фраза, брошенная в сердцах, стала приговором для тщательно выстроенного Кромвелем политического альянса и, в конечном счёте, для самого министра. Что же так оттолкнуло короля в бедной Анне? Историки до сих пор спорят об этом. Одни указывают на то, что принцесса, воспитанная в строгих традициях небольшого немецкого двора, не владела ни французским, ни английским языками, не умела петь, танцевать или играть на музыкальных инструментах – словом, не обладала теми светскими талантами, которые ценились при английском дворе. Другие предполагают, что дело было в её внешности, которая, возможно, показалась Генриху слишком «простецкой» или «лошадиной», как утверждали некоторые злопыхатели, хотя портрет Гольбейна и отзывы современников не дают оснований считать её уродливой. Возможно, свою роль сыграла и пресловутая «химия» – то неуловимое влечение, которое невозможно просчитать или предсказать.
Генрих был в ярости. «Я не вижу в этой женщине ничего из того, о чём мне докладывали, – бушевал он, обращаясь к Кромвелю, – и я поражаюсь, как мудрые мужи могли составить такие отчёты!» Министру он бросил с нескрываемой угрозой: «Если бы я знал столько же раньше, она бы никогда не прибыла сюда, в Англию. Но что теперь делать?» Увы, простого решения не было. Отменить свадьбу означало бы не только оскорбить могущественного герцога Клевского и его союзников, но и поставить под угрозу всю хрупкую систему протестантских альянсов, так необходимую Англии. Король, чья воля редко встречала препятствия, оказался в ловушке. «Если бы не то, что она проделала такой долгий путь в моё королевство, и не пышные приготовления, которые мой народ устроил для неё, и не страх вызвать суматоху в мире и толкнуть её брата в объятия Императора и французского короля, я бы не женился на ней сейчас. Но теперь всё зашло слишком далеко, о чём я сожалею», – с горечью признавался он. Кромвель, ввергнувший, по словам Генриха, его «шею в ярмо», мог лишь смиренно выражать сожаление, что его величество «не слишком доволен». Свадьба, назначенная на 6 января 1540 года, обещала стать настоящим испытанием для всех её участников.
Шесть месяцев фарса
День бракосочетания, 6 января 1540 года, выдался холодным и пасмурным, что вполне соответствовало настроению жениха. Церемония проходила в королевской часовне Гринвичского дворца. Генрих, облачённый в роскошный камзол из золотой парчи, расшитый драгоценными камнями, выглядел мрачнее тучи. Остановившись перед входом в часовню, он, по свидетельству современников, произнёс, обращаясь к своим лордам: «Милорды, если бы не необходимость удовлетворить мир и моё королевство, я бы ни за какие земные блага не сделал сегодня того, что должен сделать». Анна, в платье серебряной парчи, с распущенными волосами, символизирующими её девственность, вероятно, не догадывалась о буре, бушевавшей в душе её будущего супруга. Она выглядела спокойной и даже, как отмечали некоторые, довольно привлекательной. Однако для Генриха это уже не имело значения. Он шёл к алтарю, как на плаху.
Если Кромвель питал надежду, что брачная ночь смягчит сердце короля и пробудит в нём хоть какую-то симпатию к новой жене, то он жестоко ошибался. Наутро Генрих был ещё более резок. «Раньше она мне не слишком нравилась, – заявил он министру, – но теперь она мне нравится гораздо меньше». Король недвусмысленно дал понять, что их союз так и не был консуммирован. «Я ощупал её живот и её грудь, – откровенничал он с Кромвелем и своим врачом, доктором Баттсом, – и, насколько я могу судить, она не должна быть девственницей, что так поразило меня в самое сердце, когда я прикоснулся к ним, что у меня не хватило ни воли, ни смелости продолжать дальше в других вопросах. Я оставил её такой же девственницей, какой и нашёл». Эти слова, полные отвращения и унизительных подробностей, стали достоянием придворных сплетников и ещё больше усугубили и без того щекотливое положение Анны.
К счастью для самой Анны, она, по всей видимости, пребывала в блаженном неведении относительно того, что именно должно было произойти в брачную ночь. Воспитанная в исключительно строгой и замкнутой атмосфере клевского двора, она была совершенно наивна в вопросах супружеских отношений. Генрих, со своей стороны, не предпринял никаких усилий, чтобы просветить её, что, учитывая его тогдашнее физическое состояние – тучность, язвы на ногах, дурное настроение – возможно, было для неё и к лучшему. Тем не менее, такое неведение выставляло Анну в несколько нелепом свете. Она искренне полагала, что её брак вполне состоялся. «Почему же, когда он приходит в постель, он целует меня, – рассказывала она своим старшим фрейлинам, – и берёт меня за руку, и говорит мне: «Спокойной ночи, дорогая»; а утром целует меня и говорит: «Прощай, милая»… Разве этого недостаточно?» Одной из придворных дам пришлось деликатно объяснить королеве, что, увы, этого совершенно недостаточно. «Мадам, – сказала она, – должно быть нечто большее, иначе мы ещё долго не увидим герцога Йоркского (второго сына для короля), которого так желает всё это королевство».
Фарс продолжался шесть месяцев. Анна Клевская формально оставалась королевой Англии, но фактически была лишь гостьей при дворе собственного мужа. Генрих избегал её общества, проводя время в охотах и развлечениях с более привлекательными дамами. Политическая ситуация тем временем менялась. Угроза франко-имперского союза против Англии ослабла, а вместе с ней и необходимость в поддержке немецких протестантов. Кромвель, главный инициатор этого брака, стремительно терял влияние. В июне 1540 года король, наконец, решился разорвать ненавистные узы. Брак с Анной Клевской был аннулирован на основании его неконсуммации, а также под предлогом ранее существовавшего брачного контракта Анны с Франциском Лотарингским, заключённого ещё в её детстве и впоследствии расторгнутого. Анна, проявив завидное благоразумие, не стала возражать против аннулирования. Взамен она получила щедрое содержание, несколько поместий, включая бывший дворец Анны Болейн, и почётный титул «любимой сестры короля», что обеспечило ей высокое положение при дворе. Она осталась в Англии, вела довольно свободный и обеспеченный образ жизни, и даже пережила не только Генриха, но и всех его последующих жён.
Падение и казнь Томаса Кромвеля
Пока Анна Клевская наслаждалась своей неожиданной свободой и королевскими милостями, тучи над головой Томаса Кромвеля сгущались. Хотя сразу после клевского фиаско Генрих и возвёл своего министра, сына пивовара из Патни, в графы Эссекские и назначил лордом-великим камергером Англии в апреле 1540 года, это была, скорее, лебединая песня, а возможно, и хитроумная ловушка. Аристократия, всегда с трудом переносившая возвышение простолюдина Кромвеля, его безграничное влияние и ту беспощадность, с которой он проводил церковные реформы, разрушая монастыри и конфискуя их земли, теперь получила долгожданный повод для сведения счётов. Главными его врагами были Томас Говард, герцог Норфолк, дядя казнённой Анны Болейн и будущей пятой жены короля, Екатерины Говард, и Стивен Гардинер, епископ Винчестерский, консерватор и противник радикальных реформ.
10 июня 1540 года, во время заседания Тайного совета, Кромвель был арестован по обвинению в государственной измене и ереси. Обвинения были надуманными и противоречивыми: его одновременно обвиняли и в поддержке анабаптистов, и в тайных сношениях с Римом, и в намерении жениться на леди Марии, дочери Генриха от Екатерины Арагонской, чтобы захватить престол. Но главным, невысказанным обвинением была его ошибка с Анной Клевской, ошибка, которая выставила короля в нелепом свете и нанесла удар по его самолюбию. Из своей камеры в Тауэре Кромвель писал отчаянные письма Генриху, умоляя о пощаде: «Милосердия, милосердия, милосердия!» Он также предоставил ценные показания, подтверждающие неконсуммацию брака с Анной, что помогло королю ускорить процесс аннулирования. Это была его последняя услуга монарху, которому он так преданно служил и которого сделал одним из самых могущественных правителей в Европе.
Но мольбы о пощаде остались без ответа. Генрих, возможно, и испытывал некоторые угрызения совести, но жажда мести и давление со стороны врагов Кромвеля оказались сильнее. Суда как такового не было; его осудили по «биллю об опале» (Bill of Attainder), что позволяло казнить без формального судебного разбирательства – ирония судьбы, ведь именно Кромвель активно использовал этот инструмент против своих врагов. 28 июля 1540 года, менее чем через три недели после аннулирования брака Генриха и Анны Клевской, Томас Кромвель был обезглавлен на Тауэр-Хилл. Казнь была проведена неумело; палачу потребовалось несколько ударов, чтобы отделить голову от туловища, что превратило её в мучительное зрелище. Голова некогда всесильного министра была выставлена на шесте на Лондонском мосту – жуткое напоминание о превратностях судьбы и королевского гнева.
Наследие «фламандской кобылы» и запоздалое раскаяние короля
Анна Клевская, прозванная при дворе «фламандской кобылой» за свою, как считалось, не слишком изящную внешность, оказалась на удивление удачливой. Она не только избежала плахи, что само по себе было достижением для жены Генриха VIII, но и сумела наладить с бывшим мужем дружеские отношения. Генрих ценил её покладистый характер и отсутствие претензий. Она часто бывала при дворе, участвовала в празднествах и даже подружилась с дочерьми короля, Марией и Елизаветой. Анна пережила Генриха на десять лет, скончавшись в 1557 году в возрасте 41 года во время правления королевы Марии I. Она была похоронена в Вестминстерском аббатстве – честь, которой удостоились немногие из жён Генриха. Её история – это пример того, как невозмутимость и здравый смысл могут спасти жизнь и обеспечить достойное существование даже в самых неблагоприятных обстоятельствах.
Что касается Генриха VIII, то, по свидетельству французского посла Шарля де Марильяка, король впоследствии сожалел о казни Кромвеля. «Под предлогом неких ложных обвинений, – докладывал посол, – они заставили его предать смерти самого верного слугу, какой у него когда-либо был». Возможно, это было лишь мимолётное раскаяние стареющего тирана, осознавшего, что он лишился человека, который, несмотря на все свои недостатки, был безгранично предан короне и обладал незаурядным умом и организаторскими способностями. Кромвель был сложной и противоречивой фигурой: безжалостный политик, реформатор, талантливый администратор, но при этом человек, не чуждый коррупции и злоупотреблений властью. Его падение стало результатом не только одной неудачной сватовской миссии, но и сложного переплетения придворных интриг, религиозных разногласий и личной неприязни короля. История Анны Клевской и Томаса Кромвеля – это яркая иллюстрация того, как личные капризы монарха и политические расчёты его советников могут приводить к трагическим последствиям, меняя судьбы людей и влияя на ход истории. И как иногда самая незначительная, на первый взгляд, деталь – не та улыбка, не тот взгляд, не та «химия» – может обрушить самые продуманные планы и стоить головы даже самому могущественному министру.
***********************
Подпишись на мой канал в Телеграм - там тексты выходят раньше.
Корейское государство во второй половине XIX века. От восстания к войне
К началу 1890-х годов Чосон находился в состоянии глубокого системного кризиса. Коррупция и неэффективность правящей элиты, особенно клана Мин, сосредоточившего власть вокруг королевы Мин, усугублялись растущим экономическим бременем на крестьянство, страдавшее от непосильных налогов и злоупотреблений местных чиновников. В этот вакуум власти и социальной несправедливости вступило движение Тонхак (Восточное Учение), синкретическая религиозно-философская система, проповедовавшая равенство, социальную справедливость и изгнание «западных варваров». Его массовая привлекательность для обездоленного крестьянства и части мелкого дворянства (янбан) превратила его в мощную силу социального протеста.
Непосредственным толчком для начала восстания послужили неурожаи, вызвавшие голод и обнищание крестьянского населения — в первую очередь на юге страны. Восстание вспыхнуло в январе 1893 года на юге Кореи и вначале вылилось в спонтанные нападения групп голодных крестьян на местных помещиков-янбанов и японских купцов. К весне 1893 года восстание распространилось на центральные провинции Кореи, а затем и на её север. Королевское правительство попыталось вначале договориться с восставшими, но когда те не пошли на уступки, применило к ним силу. Против крестьян были отправлены войска, которые нанесли им решительное поражение.
Но это было только начало. Новое восстание, начавшееся в феврале 1894 года в уезде Кобу (провинция Чолла) под руководством Чон Бонджуна, быстро переросло в общенациональное антиправительственное и антифеодальное движение. Повстанцы требовали не только наказания коррумпированных чиновников и налоговых послаблений, но и признания самого учения. Неспособность правительственных войск подавить восстание вынудила королевский двор обратиться за военной помощью к своему традиционному сюзерену – Китайской империи Цин. В июне 1894 года цинские войска высадились в Асане, действуя в рамках сложившейся системы сюзеренитета-вассалитета, закрепленной в предшествующих договорах.
Вмешательство Китая было немедленно использовано Японией как casus belli. Стремясь вытеснить Китай с Корейского полуострова и установить там собственный протекторат, Япония, ссылаясь на Симоносекский договор 1876 года и Сеульскую конвенцию 1885 года, гарантировавшие независимость Кореи, направила в Корею военный контингент, значительно превосходящий по численности китайский. Японские войска заняли ключевые точки, включая королевский дворец Кёнбоккун в Сеуле (23 июля 1894 г.), осуществив государственный переворот. Они арестовали прокитайски настроенных членов правительства, восстановили формальную власть регента Тэвонгуна и вынудили корейское правительство «попросить» японцев изгнать китайские войска.
1 августа 1894 года Япония официально объявила войну Китаю. Хотя основные боевые действия велись в Маньчжурии и на море, Корея стала первым театром войны и ключевым стратегическим призом. Поражения цинских войск в Корее (при Сонхване и Пхеньяне в сентябре 1894 г.) и уничтожение Бэйянского флота у Ялу и Вэйхайвэя подорвали престиж и военную мощь Цинской империи в регионе.
Параллельно с ведением войны против Китая и подавлением продолжавшегося Восстания Тонхак, японские власти в Сеуле активно продвигали программу радикальных внутренних реформ в Корее. Реформы годов Кабо («кабо» – 1894 год по 60-летнему циклу) были инициированы и реализованы под прямым японским влиянием и давлением, часто при участии японских советников. Их целью было создание в Корее современного, централизованного государства по японскому образцу, которое было бы восприимчиво к японскому влиянию и служило бы плацдармом для японских интересов.
Содержание реформ было поистине революционным для традиционного корейского общества:
- отмена сословного деления, провозглашение формального равенства всех перед законом.
- учреждение современных министерств по японскому образцу (Кабинета министров), централизация власти, реформа местного самоуправления, направленная на усиление контроля центра над провинциями.
- проведение судебной реформы, отделение судебной власти от административной, создание современной судебной системы.
- упорядочение земельного кадастра и налоговой системы, отмена государственной монополии на торговлю некоторыми товарами, создание предпосылок для развития капиталистических отношений.
- провозглашение политики распространения современного образования, включая создание школ нового типа. Поощрение использования корейского алфавита наряду с китайской письменностью в официальных документах.
- запрет детских браков и браков вдов, отмена пыток при допросах, введение григорианского календаря с 1896 г., запрет пхунъянчхэ (местных кредитных кооперативов, часто использовавшихся для ростовщичества).
Хотя многие из этих реформ носили прогрессивный характер и отражали назревшие потребности модернизации корейского общества, их контекст и реализация были глубоко проблематичны. Они проводились оккупационной японской администрацией в условиях военного времени, без широкой общественной поддержки и часто воспринимались как навязанные извне. Ключевые решения принимались японскими советниками или про-японской фракцией в корейском правительстве (т.н. «Квэбо-ильдан»). Подавление восстания Тонхак, с которым многие реформаторы негласно симпатизировали в его антифеодальных требованиях, но которое было объявлено официальной пропагандой как «бунт злодеев», подрывало легитимность реформ в глазах народа. Финансирование реформ также ложилось тяжелым бременем на страну, и без того истощенную войной и оккупацией.
Окончание Японо-китайской войны было закреплено Симоносекским мирным договором 17 апреля 1895 года. Этот договор имел судьбоносное значение для Кореи. Его первая статья гласила: «Китай признает окончательно и полностью независимость и автономию Кореи и вследствие этого уплата дани Кореей Китаю, равно как и исполнение ею церемоний и обрядов, служащих доказательством вассальной зависимости, отменяются на будущее время». Хотя формально это провозглашало Корею независимым государством, на практике это означало лишь смену сюзерена. Освобождение от китайской опеки немедленно привело к усилению японского контроля.
Ссылка на мой телеграм-канал, если кому-то вдруг захочется присоединиться.
https://t.me/bald_man_stories
Пишу об истории, о работе, о себе. Спасибо тем, кто все это читает.
Ранчо Мерфи: калифорнийский домик Гитлера
Пророк нацизма и обладатель премии О. Генри
История американского фашизма была бы пресной и скучной без фигуры Уильяма Дадли Пелли. Этот человек, буквально сотканный из противоречий, был одновременно и пророком, и мелким жуликом, мистиком, общавшимся с духами, и прагматичным дельцом, продававшим своим последователям униформу втридорога. Прежде чем стать главным идеологом национал-социализм на Западном побережье, Пелли был ходячим воплощением американской мечты. Он был успешным журналистом, чьи репортажи и очерки с готовностью печатали такие медиа-гиганты, как The Saturday Evening Post и Collier's. Более того, он был талантливым беллетристом, дважды, в 1920 и 1930 годах, удостоенным престижной литературной премии О. Генри за свои рассказы. Его перо было настолько бойким, что вскоре им заинтересовались кинодельцы из Голливуда. Пелли перебрался в Калифорнию и писал сценарии для фильмов с участием суперзвезды немого кино Лона Чейни, известного как «Человек с тысячью лиц». Он вращался в богемных кругах, зарабатывал приличные деньги и, казалось, крепко-накрепко ухватил удачу за хвост. Но под глянцевой оболочкой успешного литератора скрывался человек, снедаемый неутолимым духовным голодом, политическими фобиями и непомерным эго. Эта гремучая смесь только и ждала своего часа, чтобы взорваться и породить одно из самых причудливых политических движений в истории Соединенных Штатов.
Катализатором этого превращения стал один вечер. 29 мая 1928 года, лежа в полном одиночестве в своем скромном бунгало в горах Сьерра-Мадре, Пелли, как он потом рассказывал, пережил опыт, изменивший всё. Он назвал это «семью минутами в вечности». Как он позже живописал в статье для популярнейшего журнала The American Magazine, его душа покинула физическую оболочку, воспарила над бренным телом и отправилась в путешествие по иным мирам. Там, в этих нематериальных сферах, он якобы беседовал с душами давно умерших людей и, разумеется, удостоился аудиенции у самого Бога и Иисуса Христа. Небесные владыки, впечатленные, видимо, его литературным слогом, возложили на него священную миссию — вернуться на землю и возглавить духовное преображение Америки, погрязшей в материализме и грехах. Казалось бы, ну что такого? Зайди в любой дурдом — там каждый второй с Христом встречался. Но это же Америка, да еще и — первой половины XX века, до всяких либеральных революций. Проще говоря, страна глубоко христианская, и где-то даже наивная в своей вере. Миллионы американцев прочитали эту исповедь. Кто-то покрутил пальцем у виска, списав всё на переутомление или дешёвую мистификацию ради славы. Но нашлись и те, кто уверовал. Тысячи людей, измученных экономическими трудностями (как раз начиналась Великая депрессия) и духовной пустотой, увидели в Пелли нового пророка, человека, познавшего тайны бытия. Вокруг него начала стремительно формироваться паства. На этой благодатной почве Пелли основал свою «Доктрину Освобождения» — дикий винегрет из теософии мадам Блаватской, спиритуализма, египетской пирамидологии и обрывков христианства. Для распространения своего учения он открыл «Колледж Галахад» в Эшвилле, Северная Каролина, который позиционировался как «духовная клиника для людей с религиозными и психическими проблемами». По сути, это была коммерческая секта, где Пелли успешно монетизировал чужие душевные терзания.
Впрочем, одним мистицизмом дело не ограничилось. Политический радикализм Пелли имел вполне конкретные корни. В 1918 году, будучи корреспондентом, он провел несколько месяцев в Сибири, наблюдая за хаосом Гражданской войны в России. Из командировки он вернулся яростным и последовательным ненавистником коммунизма и левых идей в принципе. Едва прибыв в США, он быстро смешал свои фобии с популярной в те годы конспирологической теорией об «иудо-большевизме». В его воспаленном сознании коммунизм, международное еврейство и Уолл-стрит слились в единый образ вселенского зла, стремящегося поработить христианскую Америку. Он годами варился в этом идеологическом котле, но последней каплей, переполнившей чашу, стало событие, случившееся за тысячи миль от его дома. 30 января 1933 года Адольф Гитлер был назначен канцлером Германии. Для Пелли это был знак свыше, подтверждение его самых смелых пророчеств. Он понял, что его час настал. Буквально на следующий день, 31 января, он с помпой объявил о создании «Серебряного легиона Америки», организации, более известной как «Серебряные рубашки». Этот проект, беззастенчиво скопированный с нацистских штурмовых отрядов СА, стал главным делом всей его жизни и инструментом для распространения его взглядов по всей стране.
«Серебряные рубашки» были типичным фашистским движением с американской спецификой. У них была своя униформа: серебристого цвета рубашка, символизировавшая очищение и свет, с вышитой на сердце алой буквой «L». Эта буква, по официальной версии, означала «Любовь, Верность и Освобождение» (Love, Loyalty, and Liberation), хотя критики ехидно расшифровывали её как «Свобода от вшей» (Lice, Liberty). Дополняли наряд синие вельветовые брюки, галстук и фуражка. Их идеология, которую Пелли назвал «Христианским Содружеством», была эклектичной мешаниной из корпоративизма Муссолини, расовых теорий Гитлера и теократических фантазий самого Пелли. Он открыто призывал к установлению в США диктатуры «белых христиан» и полной сегрегации и последующему изгнанию евреев из всех сфер общественной, политической и экономической жизни. В одном из своих памфлетов он без обиняков заявлял: «Мы относимся к евреям в точности так же, как нацистская партия в Германии». Чтобы придать своему антисемитизму какую-то историческую легитимность, он пошел на откровенный подлог. В своем журнале Liberation он опубликовал сфабрикованный текст, якобы являвшийся утерянной цитатой Бенджамина Франклина. В этом «Пророчестве Франклина» отец-основатель якобы предостерегал соотечественников от допущения евреев в молодую американскую нацию, называя их «вампирами» и «азиатской угрозой». Фальшивка была быстро разоблачена историками, но свою задачу она выполнила, укрепив в умах последователей Пелли уверенность в своей правоте.
Движение стремительно набирало популярность, и дело было не только в харизме лидера. Пелли был дьявольски точен в определении болевых точек общества. Он верно почувствовал тотальное отчаяние, охватившее население. Великая депрессия была настоящей катастрофой, подобной которой страна еще не ведала. К 1933 году уровень безработицы в США достиг чудовищных 25%, каждый четвертый трудоспособный американец остался без средств к существованию. Люди теряли дома, фермы, сбережения и, что самое страшное, надежду. Государственная система, казалось, дала сбой, а капитализм обернулся своей самой уродливой стороной. Пелли бил именно в эту рану. Его аргументы были просты и соблазнительны. Он говорил людям: «Вы страдаете не потому, что вы ленивы или глупы. Вы страдаете, потому что вас предали». Он указывал на конкретных, по его мнению, виновников — коррумпированных политиков в Вашингтоне и, главное, «международных еврейских банкиров» с Уолл-стрит, которые якобы и устроили этот кризис, чтобы скупить Америку за бесценок. Для разоренного фермера или уволенного рабочего, не понимавшего сложных экономических процессов, такое объяснение было как бальзам на душу. Оно давало выход гневу и рисовало перед глазами четкий образ врага.
«Христианское Содружество» Пелли обещало не только рабочие места, но и духовное очищение нации от «чуждых» элементов и морального разложения. На пике своей деятельности, в 1934-1935 годах, «Серебряный легион», по разным оценкам, насчитывал от 15 000 до 25 000 активных членов, хотя сам Пелли, склонный к мегаломании, хвастался цифрой в 100 000. Основные ячейки движения располагались на Западном побережье, в Калифорнии, Вашингтоне и Орегоне, а также на Юге. Легион активно сотрудничал с другими пронацистскими группами, такими как «Германо-американский союз» Фрица Куна. Однако за фасадом идеологической борьбы и мистических пророчеств скрывался банальный мошенник. В 1935 году Пелли был осужден в Северной Каролине за финансовые махинации. Он создал сложную схему, продавая акции своего издательства Galahad Press и самого «Серебряного легиона» по завышенным ценам, обещая инвесторам баснословные прибыли после грядущего установления «Христианского Содружества». По сути, он использовал свое движение как финансовую пирамиду, направляя средства доверчивых адептов на личное обогащение и поддержание своего экстравагантного образа жизни. Этот образ пророка-мистика и одновременно мелкого афериста идеально воплощал саму суть его организации — движения, которое предлагало своим последователям не просто политическую доктрину, а целую альтернативную реальность. В этой реальности их экономические страхи обретали мистическое объяснение, а их лютая ненависть — божественное оправдание. Именно в такой атмосфере всеобщей паранойи, экзальтации и откровенного мошенничества мог родиться проект строительства резиденции для Адольфа Гитлера в самом сердце Голливуда.
Шпион, целитель и миллионы на убежище Судного дня
При чем тут Гитлер? И при чем тут вообще Пелли? Его движение было публичным, уличным лицом американского фашизма, его громким рупором. Пока Пелли и его «Серебряные рубашки» маршировали по городским улицам, издавали собственные газеты и брошюры, и распространяли свою идеологию на массовых митингах, она находила дорожки и в другие, куда более тихие и закрытые уголки американского общества. История ранчо в каньоне Растик, того самого «Ранчо Гитлера» — это более частная иллюстрация из тех неспокойных времен.
В центре этой безумной затеи стояла пара, как будто сошедшая со страниц романа Фицджеральда, если бы тот решил написать триллер о конце света. Норман и Уинона Стивенс были людьми из совершенно разных миров, которых свела вместе судьба и, как оказалось, общая предрасположенность к тому, чтобы стать жертвами грандиозного обмана. Норман был инженером, человеком с практическим складом ума, сделавшим приличное состояние на горнодобывающей промышленности. Уинона же (в девичестве — Бассетт) была настоящей принцессой американского капитализма, наследницей колоссального состояния, нажитого ее семьей на сталелитейных заводах Чикаго. Она окончила престижный Стэнфордский университет, вращалась в высшем свете, а унаследованный ею капитал сегодня был бы эквивалентен многим миллионам долларов. Но за маской светской львицы и образованной дамы скрывалась душа, истосковавшаяся по чудесам. Уинона была глубоко увлечена тем, что вежливо называют «метафизическими феноменами», а по-простому — оккультизмом, спиритизмом и прочей эзотерической чепухой. Именно эта черта, эта готовность поверить в сверхъестественное, и сделала ее идеальной мишенью для хищников, охотящихся за чужими деньгами и душами.
Их путь к радикализации начался не с политики, а с отчаяния. В 1931 году их маленький сын страдал от тяжелой формы экземы, и все светила традиционной медицины лишь разводили руками. В этот момент на их пути и возник норвежский знахарь-шарлатан по имени Конрад Андерсон. Он был не просто мошенником; он был искусным психологом, который точно знал, на какие болевые точки давить. Он не только пообещал излечить ребенка с помощью своих «космических вибраций», но и дал Стивенсам то, в чем они нуждались еще больше — простые ответы на сложные вопросы в мире, который трещал по швам. Андерсон был продуктом своего времени, и именно он и стал для Стивенсов проводником в мир оккультного гитлеризма. И он мастерски связал эту конспирологию с личной трагедией Стивенсов. Он убедил их, что болезнь их сына — это не случайность, а физическое проявление той «порчи» и «гнили», которой поражено все американское общество, якобы управляемое «иудо-большевистским заговором». Таким образом, исцеление ребенка требовало не просто медицинского, а духовного и политического «очищения». Он также утверждал, что мир стоит на пороге апокалиптической войны, в которой схлестнутся силы «света» (в лице набирающей мощь нацистской Германии) и «тьмы» (в лице евреев, якобы управлявших США и Великобританией). Впечатлительная Уинона, и так увлекавшаяся всяческой мистикой, впитывала рассказы Андерсона как губка. Что касается прагматика Нормана, то он, судя по всему, увидел во всех этих историях просто способ выжить в настоящих и будущих катаклизмах. Нет прямых доказательств, что Стивенсы когда-либо официально вступали в «Серебряный легион» Пелли или другие подобные организации. Скорее всего, они были слишком богаты и элитарны, чтобы марать руки в уличной политике. Их поддержка нацизма была не столько идеологической, сколько эсхатологической и прагматичной. Они не стремились маршировать со свастиками; они стремились пережить предсказанный их гуру конец света, поставив на ту сторону, которую он назвал «победоносной».
История с Андерсоном, как и тайна его личности, стали известны общественности сильно позднее, а до того, в течение долгих лет, в качестве основной версии принималась байка о «герре Шмидте». Она кочевала со страниц бульварных газет в сценарии документальных фильмов, и рисовала все куда проще и кинематографичнее. Легенда гласила, что в начале 1930-х на чету Стивенс вышел харизматичный, властный и невероятно убедительный немецкий агент. Он якобы обладал даром предвидения и нарисовал перед очарованной Уиноной мрачную картину будущего. Германия, вещал он, скоро развяжет войну и одержит в ней сокрушительную победу. После этого Америка погрузится в пучину анархии. Американским сторонникам нацизма, таким как Стивенсы, потребуется надежное, неприступное и полностью автономное убежище. А когда пыль уляжется, они выйдут из своего бункера, чтобы помочь победоносному фюреру установить новый мировой порядок. Уинона, как гласит легенда, была абсолютно заворожена «сверхъестественными способностями» и железной логикой герра Шмидта и без колебаний открыла ему доступ к своим миллионам. Реальный же Конрад Андерсон никаким немецким агентом не был, однако результат его «деятельности» оказался таким же.
Загадочности всей этой истории добавляла и сама покупка земли под бункер. Согласно официальным записям округа Лос-Анджелес, участок в 41 акр в каньоне Растик был приобретен в 1933 году некой Джесси М. Мерфи. Никаких других сведений об этой женщине история не сохранила, что породило массу конспирологических теорий. Одни считали, что это псевдоним самих Стивенсов, другие — что это подставное лицо герра Шмидта. Правда, как выяснилось позже, была куда проще: Джесси Мерфи была реальной подругой Уиноны, которая просто согласилась оформить собственность на свое имя, чтобы избавить богатую наследницу от лишних вопросов.
Недавние расследования, проведенные внуком самих Стивенсов, Стивеном Россом, окончательно разрушили миф о немецком шпионе, подтвердив центральную роль Конрада Андерсона во всей этой афере. Атмосфера, царившая на ранчо, была бесконечно далека от военизированного нацистского лагеря. На самом деле это был классический деструктивный культ, построенный вокруг фигуры деспотичного лидера. Переехав на ранчо раньше самих хозяев, Андерсон установил над семьей тотальный контроль. Он привел с собой нескольких своих последовательниц и ввел в доме жесточайшие, садистские порядки. Детей Стивенсов он морил голодом, заставляя их неделями поститься на одних лишь соках, подвергал ежедневным унизительным клизмам и постоянно запугивал. Он рассказывал им, что если они будут плохо себя вести или недостаточно усердно работать на строительстве, их заберут инопланетяне на пролетающем мимо космическом корабле. Экзему у ребенка Андерсон так и не вылечил. Но к тому моменту Стивенсы были уже целиком и полностью в его руках.
Таким образом, ранчо Мерфи, который расхожая молва назовет оплотом американского нацизма, родилось не из геополитического заговора, а из глубокой личной трагедии, родительской уязвимости и циничной, беспощадной манипуляции. Это была не штаб-квартира шпионов, а персональная тюрьма для одной-единственной семьи, попавшей под абсолютную власть харизматичного психопата. А легенда о «герре Шмидте», скорее всего, родилась из обрывков слухов среди напуганных соседей. В эпоху всеобщей шпиономании и подозрительности вид таинственного, обнесенного колючей проволокой комплекса, которым заправлял властный человек с сильным европейским акцентом, не мог не породить самые дикие фантазии.
Бетон, сталь и несбывшиеся мечты
Цена паранойи, как и следовало ожидать, оказалась огромной. На реализацию безумного проекта, продиктованного апокалиптическими бреднями шарлатана Конрада Андерсона, Уинона и Норман Стивенс выложили, по самым скромным подсчетам, около 4 миллионов долларов по курсу 1930-х годов. Чтобы понять масштаб этого безумия, достаточно пересчитать эту сумму с учетом инфляции: сегодня это было бы эквивалентно примерно 75-80 миллионам долларов. Эти колоссальные, немыслимые деньги были в буквальном смысле закопаны в землю тихого каньона Растик, превратив его в настоящую крепость, спроектированную для выживания в условиях тотального коллапса цивилизации. Инженерный гений Нормана Стивенса, подстегиваемый мистическими пророчествами и неограниченным бюджетом жены, развернулся здесь во всю мощь, создав инфраструктуру, которая поражала воображение даже самых опытных строителей того времени.
Сердцем и мускулами этого автономного мира стала мощная железобетонная электростанция, спроектированная для размещения двух массивных дизельных генераторов немецкого производства, способных обеспечить энергией небольшой город. Рядом с ней, как бетонный айсберг, возвышался гигантский резервуар для воды объемом 300 000 галлонов — это более 1,1 миллиона литров, — а под землей был спрятан бак для дизельного топлива еще на 20 000 галлонов. Вся обширная территория в 41 акр была по периметру обнесена высоким забором из сетки-рабицы, увенчанным несколькими рядами колючей проволоки. Крутые склоны каньона были тщательно террасированы, превратившись в подобие висячих садов Семирамиды. На этих террасах высадили тысячи фруктовых и ореховых деревьев, а для их полива проложили сложнейшую ирригационную систему с трубами из дорогой меди, чтобы ничто не ржавело в ожидании конца света. Девять длинных бетонных лестниц, одна из которых насчитывала более 500 ступеней, зигзагами спускались по склонам, соединяя разные уровни этого рукотворного оазиса. Все было продумано с дотошностью, чтобы выдержать любую осаду, пережить любую катастрофу и обеспечить своим обитателям комфортное существование, пока остальной мир будет гореть в огне.
Однако вся эта мощная, утилитарная и брутальная инфраструктура была лишь фундаментом, подсобным хозяйством для гораздо более грандиозной и высокомерной мечты. Центральным элементом ранчо должен был стать роскошный четырехэтажный особняк на 22 спальни — не больше и не меньше, чем «калифорнийский Берхтесгаден», резиденция, достойная самого фюрера, который, как уверял Конрад, обязательно почтит Стивенсов своим присутствием и погостит у них. Из сохранившихся чертежей следует, что в этом дворце были запланированы многочисленные библиотеки, несколько столовых для разных приемов, огромный бальный зал, подземный спортзал, крытый плавательный бассейн и даже театр. Это должно было быть не просто убежище, а будущий центр власти, зримый и подавляющий символ нового порядка, который восстанет из пепла старого мира.
Для разработки чертежей чета Стивенс наняла нескольких архитекторов. И главной звездой в этой команде был Пол Ревир Уильямс — один из самых знаменитых, востребованных и талантливых архитекторов Лос-Анджелеса той эпохи. Уильямс, прозванный «архитектором голливудских звезд», проектировал роскошные виллы для Фрэнка Синатры, Люсиль Болл, Кэри Гранта и десятков других знаменитостей. Он был толковым парнем, этот Уильямс. И он был негром. В эпоху расовой сегрегации, когда ему зачастую было запрещено жить в тех районах, которые он застраивал, он добился невероятного успеха. Чтобы не смущать своих богатых белых клиентов, он даже научился рисовать эскизы вверх ногами, чтобы иметь возможность сидеть напротив них за столом, а не стоять рядом, заглядывая через плечо. Позже, когда история ранчо всплыла наружу, Уильямс написал в своем дневнике: «Я и понятия не имел, что там на самом деле происходит». Скорее всего, он лукавил, и просто постеснялся сознаться, что проектировал дом, в котором в будущем якобы должен был жить Гитлер.
В конечном счете, грандиозный особняк так и не был построен. Мечта о дворце разбилась о самую банальную и пошлую из причин — у Стивенсов просто кончились деньги. Даже их колоссальное состояние не выдержало такого размаха трат. Вместо роскошной резиденции семья ютилась в скромных апартаментах, оборудованных над массивным стальным гаражом, построенным на территории ранчо. К 1948 году они были на грани полного банкротства. Массивные, избыточно прочные и бессмысленные сооружения, поддерживающие лишь пустоту, так и остались стоять в каньоне, как нелепый и уродливый памятник грандиозным и параноидальным амбициям.
День после Перл-Харбора: рейд ФБР, которого не было
Самая сочная, самая драматичная и самая голливудская часть легенды о ранчо Мерфи — это, конечно же, ее финал. История, которую десятилетиями пересказывали с придыханием и блеском в глазах, звучит как готовая сцена из ура-патриотического военного боевика, снятого в лучшие годы студийной системы. Утро 8 декабря 1941 года. Лос-Анджелес, как и вся Америка, просыпается в новой, пугающей реальности. Город, привыкший к солнцу и блеску кинозвезд, охвачен ледяным страхом. Всего день назад пришла новость, похожая на дурной сон: японская авиация нанесла сокрушительный удар по военно-морской базе Перл-Харбор. Война, которая до этого казалась далеким европейским междусобойчиком, внезапно объявилась у самого порога. Воздух пропитался паранойей. Поползли слухи о японских субмаринах у побережья Санта-Моники и о вражеских самолетах, замеченных над Голливудскими холмами. В ту же ночь город погрузился в полную темноту, сирены воздушной тревоги выли над затемненными бульварами, а зенитные батареи палили в пустое небо, реагируя на нервные доклады наблюдателей. Страна вступила во Вторую мировую войну, и паника была почти осязаемой.
И вот, на фоне этого всеобщего безумия, разворачивается наша история. Вереница черных «фордов» с федеральными агентами ФБР на борту, решительными мужчинами в шляпах и строгих костюмах, стремительно несется по извилистым дорогам каньона Растик. Их цель — уединенное ранчо, это логово нацистских прихвостней, которые до поры до времени затаились в самом сердце Калифорнии. Агенты действуют быстро и слаженно. Они совершают молниеносный рейд, блокируя все выходы. Согласно этой канонической, многократно пересказанной версии, около 50 обитателей комплекса — наиболее стойких членов «Серебряных рубашек» и прочих сочувствующих — были скручены и арестованы без единого выстрела. Таинственный и всемогущий герр Шмидт, злой гений и архитектор «американского рейха», был схвачен как высокопоставленный немецкий шпион. А вишенкой на торте, неопровержимым доказательством их подрывной деятельности, стала находка на ранчо мощного коротковолнового радиопередатчика, способного поддерживать прямую связь с Берлином и координировать действия пятой колонны на Западном побережье. Этот рассказ обеспечивал всей истории идеальный, чистый и героический финал: внутренняя угроза была вовремя распознана и решительно нейтрализована доблестными спецслужбами еще до того, как предатели успели нанести удар в спину воюющей нации.
Проблема с этой красивой историей лишь одна: она является вымыслом от первого до последнего слова. Тщательное изучение исторических документов, полицейских отчетов и рассекреченных архивов ФБР рисует совершенно иную, куда более прозаичную и оттого еще более поучительную картину. Безусловно, ФБР не сидело сложа руки. Сразу после Перл-Харбора по всей стране, и особенно в Калифорнии с ее большой японо-американской диаспорой и активными пронацистскими группами, начались массовые аресты. Агенты Бюро действительно вели активнейшее наблюдение за такими организациями, как «Германо-американский союз» (German American Bund), который открыто маршировал со свастиками по улицам Лос-Анджелеса и проводил многотысячные митинги. Лидеры этих групп были арестованы, их штаб-квартиры закрыты. Но в архивах, где задокументирована каждая операция, не найдено ни единого, даже самого косвенного упоминания о рейде или арестах именно на ранчо Мерфи в декабре 1941 года. Это была просто еще одна городская легенда.
Самым неопровержимым и убийственным для легенды доказательством является один простой, но железобетонный факт, зафиксированный в официальных документах, который превращает всю шпионскую сагу в абсурд. Семья Стивенс — Норман, Уинона и их четверо детей — официально переехала на постоянное место жительства на ранчо в День благодарения, 26 ноября 1942 года. Это произошло почти через год после того, как их, согласно мифу, арестовали, а сам комплекс был опечатан властями. И уж подавно на ранчо никогда не было легионеров Пелли — вероятнее всего, они вообще понятия не имели о том, что за стройка века там идет и для чего. Стивенсы были людьми из самого высокого общества, а Уильям Дадли Пелли был главарем военизированной группировки и уличным активистом. Их пути просто не могли пересечься.
Так откуда же взялась эта невероятно живучая легенда? По всей видимости, ее источником стал некий Джон Винсент, профессор музыки из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, который позже, в 1950-х, управлял ранчо, когда оно превратилось в приют для художников и разных леваков. В 1975 году, спустя более тридцати лет после описываемых событий, Винсент, видимо, желая придать истории места, которым он заведовал, больше значимости, предоставил местному историку Бетти Лу Янг нотариально заверенное заявление. В этом документе он и изложил всю эту шпионскую сагу о герре Шмидте, нацистском заговоре и рейде ФБР. Янг, не утруждая себя перекрестной проверкой фактов и, вероятно, очарованная драматизмом рассказа, включила его в свою книгу об истории Пасифик-Палисейдс. С этого момента миф зажил собственной жизнью. Его с радостью подхватили и многократно повторили средства массовой информации, которые всегда предпочтут яркий, остросюжетный вымысел скучной и неоднозначной правде. Легенда была слишком хороша.
Реальный конец этого проекта был куда более прозаичным, тихим и печальным. Ранчо не пало в результате героической спецоперации. Оно просто угасло, как костер, в который перестали подбрасывать дрова. В 1943 году от сердечного приступа умер его идейный вдохновитель и главный манипулятор, шарлатан Конрад Андерсон, оставив семью Стивенс наедине с их бетонным монстром и рухнувшими пророчествами. В 1945 году закончилась Вторая мировая война, что сделало саму идею убежища от глобального хаоса абсолютно бессмысленной. Победа союзников превратила их крепость не в ковчег спасения, а в памятник их собственной глупости. Семья Стивенс, вложившая в этот бетонный мираж все свое гигантское состояние, оказалась на грани полного банкротства. Они прожили на своем так и не пригодившемся ранчо до 1948 года, в тени грандиозных и теперь совершенно бесполезных сооружений, которые каждый день напоминали им о масштабе их заблуждений. Затем они были вынуждены продать его за бесценок, за долю от тех миллионов, что были в него вложены, понеся колоссальные финансовые и моральные убытки.
От приюта для художников до исписанных граффити руин
После того как Стивенсы, разоренные, опустошенные и, вероятно, окончательно излечившиеся от веры в пророков-шарлатанов, покинули свое владение, у ранчо Мерфи началась вторая, не менее удивительная и парадоксальная жизнь. В 1948 году они продали этот памятник своей наивности, и здесь история снова сделала издевательский кульбит, продемонстрировав своеобразное чувство юмора. Покупателем участка стал Фонд Хантингтона Хартфорда, эксцентричного миллионера и наследника бакалейной империи A&P. Хартфорд был меценатом и страстным любителем искусств, и у него были свои, совершенно противоположные планы на это место. Там, где Стивенсы и их гуру видели крепость для выживания арийской расы, Хартфорд увидел идеальный творческий инкубатор. С 1950 по 1965 год ранчо превратилось в место тусовок для творческой богемы.
Это было элитное, почти утопическое заведение, где деятели искусства, пройдя строгий отбор, могли жить и работать на полном пансионе, не отвлекаясь на бытовые мелочи. Но и эта идиллия не могла длиться вечно. К 1965 году у щедрого, но не слишком практичного мецената Хартфорда попросту иссякли средства на содержание своего дорогостоящего проекта. Колония была закрыта, художники разъехались, и ранчо снова опустело, погрузившись в тишину и запустение. В 1973 году его выкупили власти города Лос-Анджелес, намереваясь включить его в состав огромной парковой зоны Topanga State Park. Казалось, у этого места появился шанс на спокойную старость в качестве живописного уголка природы. Однако окончательный удар по постройкам нанесла сама природа, словно решив стереть с лица земли этот странный шрам. В 1978 году мощнейший лесной пожар, вошедший в историю как «пожар в каньоне Мандевиль», огненным смерчем пронесся по этим местам. Пламя уничтожило почти все сгораемые конструкции, оставив после себя лишь почерневший бетонный скелет. С тех пор ранчо было окончательно покинуто людьми и отдано на откуп времени, вандалам и дикой природе.
В 2016 году городские власти предприняли попытку навести порядок. Было снесено несколько знаковых, но ветхих объектов, включая остатки оригинальных стальных ворот и машинного цеха, в котором когда-то ютилась семья Стивенс. Здание электростанции, самую заметную и прочную из руин, наглухо заварили стальными листами, чтобы преградить доступ внутрь.
***********************
Подпишись на мой канал в Телеграм - там все выходит раньше и доступны тексты, которые я не могу выложить на Пикабу из-за ограничений объема.
Тысячеликий антигерой. История Юрия Трапезундского: авантюриста, убийцы, предателя и верного слуги Его царского величества
Тысячеликий антигерой
Принято считать, что история не терпит сослагательного наклонения. В действительности же она терпит всё и во всё, а уж разных лихих людишек, что плевать хотели на любые правила и условности, любит пылко и нежно. На дворе семнадцатый век, эпоха религиозных войн, абсолютизма и продолжающихся великих географических открытий, настоящий рай для авантюристов всех мастей. Но даже на этом пестром фоне биография грека, известного в русских документах как Юрий Иванов сын Трапезундский, выглядит как сценарий плутовского романа, написанный циником с богатым воображением. Забудьте о благородных корсарах и идейных наемниках. Наш герой — продукт своего времени: жестокий, беспринципный и феноменально живучий. Мы даже не знаем его настоящего имени, только русифицированную версию — Юрий, и отчество по отцу — Иван. Можно лишь предположить, что изначально героя нашей истории звали Георгием, поскольку имя Юрий — его упрощенная производная версия. Вся его ранняя биография — это клубок из двух противоречащих друг другу рассказов, которые он поведал московским дьякам в Посольском приказе в 1627 и 1633 годах. И в этих расхождениях кроется вся суть этого человека, для которого ложь была не грехом, а рабочим инструментом.
Родился он в Трапезунде, бывшем осколке великой Византии, который к тому времени уже почти два столетия находился под властью Османской империи. Этот портовый город на Черном море был плавильным котлом народов и религий. Здесь бок о бок жили греки, турки, армяне, генуэзцы, и молодой человек с детства впитал эту атмосферу, научившись находить общий язык с кем угодно. Он свободно владел греческим, турецким, татарским и, что самое важное для его будущей карьеры, итальянским — лингва франка всего Средиземноморья. В документах его социальный статус туманно определен как «служилый человек», а занятие отца — «гайдуцкая служба». Это не дворянин, не купец, а, скорее всего, охранник на торговых судах. Обычная работа для крепкого парня в неспокойном регионе. В один прекрасный день, где-то в 20-х годах XVII века, он нанялся на греческий корабль, груженный зерном и направлявшийся в Стамбул. Казалось бы, что могло пойти не так?
В Средиземном море, на перекрестье торговых путей и пиратских засад, их судно было атаковано. В первом своем рассказе Юрий утверждал, что их захватили «турские люди», а он стал невольником на галере. Классическая история, вызывающая сочувствие. Но спустя шесть лет, на втором допросе, он уже говорил о корабле «арабских разбойников», то есть алжирских пиратов, и скромно умолчал о своем рабском статусе. Если сложить две версии, вырисовывается куда более реалистичная картина. Скорее всего, его действительно захватили, но на галере он пробыл недолго. Берберийские пираты, чьей основной базой был Алжир, представляли собой грозную силу, фактически независимое государство, жившее за счет грабежа и работорговли. По оценкам историков, с XVI по XIX век они захватили и продали в рабство от 1 до 1,25 миллиона европейцев. Но для человека вроде нашего Юрца, с его знанием языков и отсутствием моральных терзаний, был и другой путь. Вместо того чтобы грести до конца своих дней, он, по всей видимости, сумел доказать свою полезность и сам стал одним из корсаров. Как он сам выразился, «ходил для добычи с арапы на море под немецких людей», то есть грабил европейские суда. Интересно, что в таких случаях от ренегата обычно требовалось принять ислам, потому что корсары не допускали в свои команды иноверцев, место которым было только на веслах. Практически наверняка это процедуру пришлось пройти и Юрию, о чем он тактично умолчал.
Его карьера морского разбойника оборвалась так же внезапно, как и началась. У испанских берегов их галера столкнулась с испанским же флотом. И здесь наш герой снова демонстрирует чудеса изворотливости. В своей первой, «невольничьей» версии он рассказывает героическую историю о восстании рабов. Якобы ночью, когда команда уснула, гребцы перерезали мусульман и сдали корабль испанцам. «И тъ де турские люди поуснули и они де неволники тех турских людей всех побили». Очень удобно, чтобы предстать в глазах католиков-испанцев не пиратом, а борцом за свободу. Скорее всего, никакого бунта не было, а была обычная морская стычка, в которой пираты проиграли. Оказавшись в плену у испанцев, он моментально сменил личину. В католической Испании, где правила династия Габсбургов, быть православным греком было невыгодно. Поэтому он, свободно владеющий итальянским, представился итальянцем-католиком. Этот маневр позволил ему не только избежать каторги, но и получить свободу. Из Испании он перебрался во Фландрию, которая тогда была испанской территорией, а оттуда — в протестантскую Голландию, главного врага Испании.
В Республике Соединенных Провинций, переживавшей свой золотой век, он снова нанялся на корабль. Но море упорно не хотело отпускать его. В ходе очередной морской баталии, на этот раз между голландцами и англичанами, он снова попал в плен. Оказавшись в Англии, он опять провернул свой коронный трюк. Перед англичанами, которые с подозрением относились к католикам, он снова стал тем, кем был рожден — православным греком. В Лондоне того времени уже существовала небольшая, но влиятельная греческая община, и он быстро нашел там покровителей. Вероятно, именно там он познакомился с братьями Иваном и Дмитрием Альбертусами-Далмацкими, которые считались потомками византийских императоров Палеологов. Возможно, именно они и подсказали ему следующий пункт назначения. Услышав о том, что в далекой Москве царь Михаил Федорович щедро платит иностранным наемникам, особенно единоверцам-православным, Юрий решил, что его одиссея в Старом Свете окончена. В августе 1627 года на английском корабле он прибыл в Архангельск, чтобы, как он заявил чиновникам, «служить государю верою и правдою, слыша к иноземцем царьское жалованье и неизреченную милость». Бывший пират и вечный хамелеон начинал новую главу своей жизни, даже не подозревая, что самые невероятные его приключения еще впереди.
Солдат, перебежчик, интриган
Прибыв в Москву, Юрий Трапезундский угодил в среду, идеально подходящую для человека его склада. Русское царство под управлением первого Романова, Михаила Федоровича, отчаянно пыталось оправиться от потрясений Смутного времени и модернизировать свою армию. Для этого создавались «полки нового строя», и на службу активно привлекали иностранцев. Европейские наемники — немцы, шотландцы, голландцы — ценились высоко, но к православным грекам отношение было особенным. Их воспринимали не просто как наемников, а как единоверцев, носителей наследия павшей Византии. В Посольском приказе, где его тщательно допросили, Юрий разыграл карту гонимого за веру странника, и ему поверили. Его зачислили рядовым в «греческую роту», входившую в состав элитного «Большого полка». Жалованье ему положили царское: «подъемные» в 12 рублей, солидное по тем временам сукно на мундир и ежедневный «корм» в 10 алтын. Вскоре ему определили и поместно-денежный оклад в 250 четей земли и 12 рублей годовых. Это были серьезные деньги, ставившие его в один ряд с мелкопоместным дворянством. Наш герой быстро освоился в Москве, женился на русской девушке, завел детей и, казалось, остепенился. Но спокойная жизнь была не для него. В 1632 году грянула Смоленская война.
Россия решила воспользоваться смертью польского короля Сигизмунда III и отвоевать Смоленск, утерянный в годы Смуты. «Греческая рота» в составе армии воеводы Михаила Шеина отправилась на запад. И здесь биография Трапезундского снова упирается в развилку, распадаясь на две версии. Согласно той, что он сам позже рассказал в Москве, его отряд из десяти человек, отправившись на заготовку фуража, заблудился в лесу во время метели и через два дня блужданий наткнулся на поляков, которые и взяли их в плен. Удобная и ни к чему не обязывающая история. Однако реальность, похоже, была куда прозаичнее и циничнее. Спустя некоторое время русские перехватили польского лазутчика с письмом, в котором среди прочих перебежчиков, снабжавших поляков информацией о состоянии русской армии, фигурировало и имя Юрия Трапезундского. Судя по всему, он не попал в плен, а сознательно перешел на сторону врага, прихватив с собой небольшой отряд единомышленников-предателей. Для человека, сменившего столько флагов, это был всего лишь очередной деловой ход.
В польском лагере его ждал не допрос с пристрастием, а почти королевский прием. Он снова провернул свой коронный трюк. Перед поляками он предстал уже не православным греком, а знатным итальянцем-католиком, оказавшимся на русской службе по прихоти судьбы. Его рассказы были настолько убедительны, что его удостоили личной аудиенции высшие чины Речи Посполитой, включая великого гетмана литовского Льва Сапегу и наследника престола, королевича Владислава.
В Речи Посполитой короля выбирал сейм, поэтому после смерти венценосного батюшки Владислав не унаследовал трон автоматически, а еще целых полгода пробыл в статусе королевича, ожидая, пока его кандидатуру утвердит шляхта.
С последним, ставшим вскоре королем Владиславом IV, он, по его собственным словам, настолько сблизился, что ездил в одной карете и вел на итальянском языке беседы о высокой политике. Вероятно, он снабжал поляков ценными сведениями о русской армии, ее численности и моральном духе, что было крайне важно в условиях затянувшейся осады Смоленска. Но и полякам он, похоже, не собирался служить верой и правдой. Находясь в Кракове, он умудрился встретиться с послом крымского хана, перед которым предстал уже турецким мусульманином, выведывая информацию о планах татар. Он играл в свою игру, где все стороны были лишь фигурами на его личной шахматной доске.
Казалось, путь назад ему заказан. Он — изменник, чье предательство было задокументировано. Но Трапезундский обладал не только наглостью, но и поистине звериной интуицией. После окончания войны, когда поляки отпустили его «домой в Италию», он не поехал на юг. Вместо этого он через охваченную Тридцатилетней войной Германию добрался до Амстердама. Там он встретился со своим земляком, которому также удалось бежать из русского плена, и провернул одну интересную аферу. Наш Юрец каким-то образом раздобыл рекомендательную грамоту от самого штатгальтера Нидерландов, Фридриха Генриха Оранского. С этой бумагой в кармане он сел на голландский корабль и во второй раз в жизни приплыл в Архангельск, откуда путь ему был один — в столицу.
А в Москве его уже ждали. Дело об измене никто закрывать не собирался, напротив — оно было в самом разгаре. Русская жена Юрия и его дети уже были сосланы в Устюг, и теперь оставалось дождаться самого виновника торжества. Как только наш авантюрист ступил на русскую землицу, его тут же взяли под белы рученьки и потащили в Посольский приказ на допрос. И здесь он превзошел сам себя. Он рассказал дьякам свою вторую, отредактированную версию биографии, полную пиратской романтики и героической борьбы, представив свой переход к полякам как вынужденный плен. И ему поверили! Возможно, сработала грамота голландского правителя. Возможно, его знания о европейской политике и польской армии были слишком ценны, чтобы просто сгноить его в тюрьме. А возможно, московские власти решили, что такого беспринципного, но деятельного и умного проходимца лучше держать при себе, на виду — авось еще пригодится. Как гласит официальный документ: «И по государеву указу велено государева служба служить и государева жалованья кормовые деньги давати по прежнему… А жену ево Юшкину и з детьми с Устюга указали государь и светеишии патриарх взяти к Москве и отдати ему».
Его не просто помиловали. Его карьера стремительно пошла в гору. В 1635 году он уже поручик. Его отправляют на южные рубежи, на Тульско-Белгородскую засечную черту, где он храбро — без шуток! — сражается с крымскими татарами. В стычке под Ливнами он проявляет себя как отважный воин и получает награду. А в 1637 году бывший пират, раб, наемник и государственный изменник Юрий Трапезундский становится ротмистром и возглавляет всю «греческую роту». Получив власть, он немедленно начал использовать ее в своих интересах, положив начало новому витку своей карьеры — придворного интригана.
Став начальником, Юрий развернулся во всю ширь. Москва XVII века была городом, где интрига была таким же обыденным делом, как торговля или молитва, и греческая община не была исключением. Напротив, потомки византийцев, привыкшие выживать под пятой Османской империи, принесли с собой в Россию все свое искусство подковерной борьбы. Как писал современник: «А живут они все в единои слободе, пьют и ядят вместе, кумовство и сватовство у них заодно…». Но за этим фасадом единства кипела яростная борьба за влияние, должности и царскую милость. Трапезундский, став ротмистром, оказался на вершине этой пирамиды и принялся безжалостно расчищать пространство вокруг себя. Он помогал нужным землякам подтверждать их липовые дворянские титулы, а неугодных топил в доносах и кляузах. Рукоприкладство стало его фирменным стилем. В 1638 году он подал жалобу на некоего Григория Савельева Гречанинина, обвинив того в нападении. В своей челобитной Юрий живописал, как он, отец-командир, по-отечески отчитал подчиненного: «За что ты, Григореи, товарыщев своих бьешь и матерны бранишь?». В ответ, по его словам, неблагодарный Гречанинин «учал меня… лаять и… по щокам меня… учал бить и за бороду драть и с саблею наголо ко двору моему приходить». Картина маслом: оскорбленный начальник и буйный подчиненный. Вот только, скорее всего, все было с точностью до наоборот.
Но кулаками и кляузами дело не ограничивалось. За время его командования из «греческой роты» при загадочных обстоятельствах исчезло тринадцать человек. Их просто списали, но в общине шептались, что неугодных ротмистру людей его подручные попросту тайно прикопали где-то за городом. Прямых доказательств не было, но сама атмосфера страха, которую он создал в своем подразделении, говорила о многом. Однако настоящая катастрофа разразилась, когда Трапезундский замахнулся на действительно влиятельных людей — семью князей Алибеевых-Македонских и их соратника Дмитрия Альбертуса. Причина этого конфликта была не в личной ссоре, а в борьбе за абсолютную власть. Трапезундский не хотел быть одним из лидеров греческой общины, он хотел быть единственным. Алибеевы-Македонские, знатные и влиятельные, были его прямыми конкурентами. Более того, есть все основания считать, что Дмитрий Альбертус был его бывшим покровителем, который помог ему на первых порах в Москве. Атакуя его, Юрий не просто устранял соперника, но и демонстративно рвал узы зависимости, показывая всем, что теперь он сам себе хозяин. Он ударил по самому уязвимому месту — по легитимности их статуса, заявив, «будто они были не князья» в своей земле. Для иммигранта дворянский титул был основой всего: жалованья, земли, положения при дворе. Лишив их титула, он бы их уничтожил. Для этого он состряпал подложную челобитную якобы от имени двадцати трех своих подчиненных, заставив их подписать пустые листы, на которые уже сам Юрий затем добавил текст обращения. Но в этот раз он просчитался. Алибеевы оказались ему не по зубам. Они не только смогли защитить свой титул, но и нанесли сокрушительный ответный удар. Они быстро выяснили, кто был инициатором доноса, и его прошлое снова всплыло во всех неприглядных деталях. В приговоре его назвали без обиняков: «ведомои вор и крестопреступник». В 1642 году его лишили всех званий и отправили в ссылку. Для человека, видевшего полмира, Сибирь, казалось, должна была стать концом пути. Но не для нашего Юрца, котором и сам черт был не брат. Что же, Сибирь — так Сибирь, находчивый человек нигде не потеряется. И он не потерялся.
Этапом из Москвы, зла немеряно
В 1642 году, лишенный чинов и милости, Юрий Трапезундский отправился по этапу в Сибирь. Для большинства это был бы билет в один конец, в безвестность и забвение. Томск, куда его сослали, был не просто далекой окраиной, а настоящим краем света — суровый, дикий фронтир, где жизнь стоила дешево, а царская рука была далека и немощна. Его семья, судя по всему, отправилась с ним, однако об их дальнейшей судьбе летописи молчат — приказным дьякам куда интереснее был сам Юрий.
Бывший ротмистр, привыкший к столичным интригам и европейским дворам, казалось, был обречен сгинуть в снегах, доживая свой век в роли рядового казака. Но Сибирь XVII века была не только местом ссылки, но и землей колоссальных возможностей для людей без совести и страха. Это был мир, живущий по своим законам, медвежий угол для служилых казаков, беглых крестьян, ссыльных преступников всех мастей и коренных народов, которых пытались подчинить и обложить данью. Здесь, за тысячи верст от Москвы, приказы царя доходили с опозданием на месяцы, а то и годы, и суд вершил не закон, а острая сабля. А нашему-то герою только того и надобно. Он не горевал и не раскаивался. Он просто оценил новую обстановку и начал действовать, ведь для человека, обогнувшего всю Европу от Алжира до Архангельска, Томск был лишь очередной точкой на карте.
В диких сибирских землях, где постоянно не хватало опытных военных, человек вроде Трапезундского, с его-то реноме, был на вес золота. А то, что он государственный преступник — ну, у всех свои недостатки. Его быстро вернули на службу, хоть и в низшем чине. Он участвовал в походах на кочевников, собирал ясак — пушную дань с местного населения — и быстро доказал свою полезность. Его деятельная натура и отсутствие щепетильности не остались незамеченными. Вскоре он нашел нового покровителя, самого могущественного человека в регионе — томского воеводу, князя Осипа Щербатова. Воевода, будучи полновластным хозяином вдали от Москвы, быстро разглядел в ссыльном греке родственную душу и идеального подельника для своих темных дел. Щербатов, как и многие сибирские воеводы того времени, рассматривал свою должность не как служение государю, а как возможность быстро и сказочно обогатиться. Власть его была практически абсолютной, а контроль из центра — минимальным. Он был местным царьком, и ему нужен был такой же беспринципный и деятельный помощник. Так начался новый, сибирский этап карьеры нашего авантюриста, на этот раз в роли коррупционера и казнокрада.
Схема, которую они наладили, была постой, но рабочей. Щербатов, пользуясь своим положением, утаивал значительную часть пушнины, собиравшейся с сибирских аборигенов для отправки в государеву казну. Мех в то время был главной валютой России, ее «мягким золотом», основой экспорта и важной статьей доходов казны. Юрий стал правой рукой воеводы в этом бизнесе. Он лично ездил в самые отдаленные ясачные волости, на Чулым и в Мелесский острог, где занимался незаконной торговлей. Как отмечалось позже в челобитных на воеводу: «Да он же, князь Осип, посылал от собя с товары… и вино с сыном боярским с Юрьем Тропизонским да служивыми людьми и велел на те свои товары покупать у твоих государевых служивых ясашных людей всякую мяхкую рухледь». По сути, они обменивали казенные товары и водку, спаивая местное население, на лучшие соболиные и лисьи шкуры, которые затем присваивали себе. Это был невероятно прибыльный бизнес, позволивший ссыльному греку снова обрести богатство и влияние. Он жил не тужил, став теневым хозяином томского уезда.
Но любой криминальный союз держится на балансе интересов, а жадность воеводы Щербатова, видимо, перешла все границы. Он обворовывал не только казну, но и своих подчиненных — служилых людей, казаков, которые несли основную тяжесть службы на фронтире. Недовольство в Томске нарастало, и в 1648 году оно вылилось в открытый бунт. Казаки и посадские люди, доведенные до отчаяния поборами и самоуправством, составили челобитную на имя царя Алексея Михайловича, где перечисляли все злодеяния воеводы и его подельников, среди которых, разумеется, фигурировал и Юрий. Почувствовав, что запахло жареным, Щербатов бежал из города, отправив в Москву свой собственный донос, где выставлял себя жертвой мятежа. Трапезундский оказался между молотом и наковальней. Его имя было в челобитной бунтовщиков, и оставаться верным бежавшему покровителю было самоубийством. Немного подумав, он сделал то, что умел лучше всего — переметнулся на сторону победителей.
Он не просто присоединился к восставшим, он их возглавил. Вчерашний главный помощник воеводы-казнокрада в одночасье стал ярым борцом за народную справедливость. Каким-то образом он смог заболтать мятежников, выставить себя их другом, а все лихоимство — списать на беглого воеводу, который все равно никак не смог бы за себя ответить. Как ему это удалось — одному черту ведомо. Вместе со своими новыми товарищами он организовал погоню за людьми Щербатова, пытавшимися удрать вместе с награбленным добром по водам Томи. Беглецов настигли и жестоко избили. Но на этом бунтовщики не остановились. Их следующей жертвой стал священник Сидор Лазарев, который не побоялся писать доносы на бесчинства воеводы и его шайки, включая Трапезундского, тобольскому архиепископу. Возникает вопрос: разве священник и восставшие были не на одной стороне? Ведь и он, и они писали челобитные против Щербатова. Формально — да, но Юрий-то теперь заделался в борцы за все хорошее против всего плохого. А батюшка прекрасно знал и помнил, «кем был Паниковский до революции». Да и вообще, священник действовал не в интересах будущих бунтовщиков, а против всей коррумпированной системы. Когда же Трапезундский, спасая свою шкуру, возглавил восстание, Лазарев превратился для него из ситуативного союзника в смертельно опасного свидетеля его недавнего прошлого. За это отца Сидора забили насмерть палками на глазах у его жены и детей.
И вот тут происходит самый невероятный поворот во всей этой сибирской саге. Бунт нужно было как-то легализовать в глазах Москвы. Восставшие понимали, что без царского прощения их всех ждет плаха. Им нужен был человек, который смог бы поехать в столицу, доставить их челобитную и убедить царя в их правоте. И кого же они выбрали для этой миссии? Да вы уже и так знаете. Конечно же, самого красноречивого, наглого и изворотливого из своих рядов — Юрия Трапезундского. Ирония ситуации была запредельной: человек, который несколько лет вместе с воеводой грабил казну и служилых людей, теперь ехал в Москву жаловаться на этого самого воеводу от имени им же ограбленных. В качестве взятки и доказательства своей верности он вез с собой утаенные запасы мехов — тех самых мехов, которые он сам же и помогал воровать. Бывший пират, изменник, интриган и убийца отправился в столицу в новой для себя роли — народного заступника.
Наш пострел везде поспел
После многих недель пути по сибирскому тракту, сквозь пыль и грязь, в 1649 году в Москву прибыла делегация из мятежного Томска. Столица встретила их настороженно. Во главе делегации, на виду у стрелецких патрулей и любопытных горожан, стоял человек, чье обветренное лицо и цепкий взгляд выдавали в нем не смиренного просителя, а хищника, попавшего в чужие угодья. Это был Юрий Трапезундский. Он вез царю Алексею Михайловичу челобитную от бунтовщиков и обоз, груженный «мягким золотом» — пушниной, которую сам же помогал красть у государевой казны. Прибыли они в неурочный час — воздух Москвы был еще густым от страха и подозрений после Соляного бунта 1648 года, когда разъяренная толпа растерзала нескольких влиятельных бояр прямо у стен Кремля. Власть, напуганная до смерти, с параноидальной подозрительностью относилась к любым проявлениям народного недовольства, особенно к вооруженным восстаниям на далеких окраинах. А Трапезундский был не просто просителем, он был послом от победившего бунта, одним из его вождей, чьи руки были по локоть в крови, включая кровь священника. Любой другой на его месте уже давно вдыхал бы сырой, затхлый воздух застенков Сибирского приказа. Но не Юрий Трапезундский.
Прибыв в столицу, он быстро оценил обстановку. В приказах уже лежали доносы сбежавшего воеводы Щербатова, который, разумеется, выставлял себя невинной жертвой, а всех восставших — ворами и разбойниками. Верили, конечно, ему — родовитому князю, а не каким-то там сибирским казакам. Увидев, что дело пахнет не царской милостью, а плахой, Трапезундский моментально, в лучших традициях своей биографии, «переобулся в воздухе». В Сибирском приказе, куда его доставили для дачи показаний, он разыграл свой величайший спектакль. Из вождя восстания он превратился в жертву обстоятельств. Он рассказывал, как злодей-воевода грабил народ, как вспыхнул праведный гнев служилых людей, и как его, верного государева слугу, силой заставили примкнуть к бунтовщикам. А затем, войдя в раж, он предложил сделку: он, и только он, знает всю подноготную бунта и готов сдать всех зачинщиков с потрохами.
Это было именно то, что хотели услышать московские власти. Им нужен был не просто козел отпущения, а человек, который поможет им восстановить контроль и показательно наказать виновных, не разбираясь в тонкостях сибирских обид. Трапезундский стал для них бесценным источником информации. Он предал всех своих вчерашних товарищей по оружию, тех, кто доверил ему свою судьбу и отправил в Москву в качестве своего представителя. Он подробно расписал, кто и какую роль играл в восстании, кто убивал священника, кто грабил воеводское имущество. Себя же он выставил чуть ли не тайным агентом властей в стане врага, который только и ждал момента, чтобы восстановить справедливость. И самое поразительное в этой истории — ему снова поверили.
Результат этого предательства превзошел все самые смелые ожидания. Вместо того чтобы разделить участь своих подельников, которых ждала ссылка и каторга, Юрий Трапезундский получил полное прощение и неслыханную награду. В 1649 году, всего через год после того, как он возглавил кровавый бунт в Томске, его не просто восстановили на службе. Его вернули в Москву и… снова назначили ротмистром «греческой роты»! Это был апофеоз его карьеры, пик его невероятной способности выходить сухим из воды. Ссыльный каторжник, казнокрад, изменник и убийца снова стоял во главе элитного наемного подразделения в столице Русского царства. Трудно представить, что творилось в головах у его подчиненных, знавших о его «сибирских каникулах». Но факт остается фактом: на какое-то время он снова стал уважаемым и влиятельным человеком.
Вместо эпилога
Однако долго триумф Трапезундского в Москве продолжаться не мог. Одно дело — использовать полезного негодяя для решения сиюминутных проблем на далекой окраине, и совсем другое — терпеть его на виду у всего двора. Вероятно, московская верхушка довольно быстро спохватилась, осознав всю абсурдность ситуации. В 1651 году его триумфальное возвращение закончилось. Его снова отправили в Томск, но на этот раз он ехал туда не как ссыльный преступник, а как официальный представитель власти. Ему была поручена особая миссия, как раз по его натуре: вершить суд и расправу над своими же вчерашними товарищами по бунту. Парадоксально, но именно участие в «воровском круге» и последующее предательство принесли ему наивысший социальный статус в его жизни. В Сибири он получил чин «сына боярского», что фактически приравнивало его к провинциальному дворянству, и один из самых высоких денежных окладов в Томске — 14 рублей в год и большой хлебный паек.
Последние годы его жизни прошли на удивление продуктивно. Он больше не участвовал в бунтах, а верой и правдой служил той самой власти, которую столько раз обманывал. Более того, на фронтире он выполнял крайне важную и нужную функцию: приводил в русское подданство кочевые племена, занимался «дозором» (инспекцией и описью) земель Басагарской волости. Удивительный контраст с его преступным прошлым. В 1658 году именно он, бывший алжирский пират, авантюрист и многократный предатель руководил строительством нового Ачинского острога, перенеся его на более удобное место между реками Чулым и Кангалом. Этот острог со временем вырос в город Ачинск, существующий и поныне в Красноярском крае. Так разбойник и проходимец оставил после себя вполне реальный и долговечный след на карте России. После 1662 года его имя исчезает из всех документов. К тому времени ему было уже за шестьдесят — возраст по тем временам более чем почтенный. Умер ли он в своей постели, окруженный почетом, или его настигла запоздалая месть кого-то из тех, кого он предал на своем долгом и извилистом пути, — мы уже никогда не узнаем. Он просто растворился в сибирских просторах, оставив после себя легенду о человеке, который мог договориться с кем угодно — с Богом, с чертом и даже с собственной совестью.
***********************
Подпишись на мой канал в Телеграм - там все выходит раньше и доступны тексты, которые я не могу выложить на Пикабу из-за ограничений объема.
Человек, сшитый из противоречий: несказочная жизнь Ганса Христиана Андерсена
Гадкий утенок
Второго апреля 1805 года в датском городке Оденсе, в крошечном однокомнатном доме, где помимо его семьи ютились еще два семейства, на свет появился мальчик. Судьба не потрудилась расстелить перед ним ковровую дорожку. Отцом его был двадцатидвухлетний сапожник Ганс Андерсен, человек, который умел читать и размышлять, но не умел зарабатывать деньги. Мать, Анна Мария Андердаттер, была неграмотной прачкой из еще более глубокой нищеты, женщина суеверная и простая, чьей главной заботой было прокормить семью. Их жилище, заставленное сапожным верстаком, кроватью и складной скамьей, было тем самым «болотом», тем «птичьим двором», из которого будущему великому сказочнику предстояло отчаянно выбираться всю свою жизнь. Бедность была не просто фоном, она была воздухом, которым он дышал. Позже он напишет: «Моя колыбель стояла у самой стены нищеты». Эта нищета была густой, осязаемой, она пахла кожей, воском и сыростью. Отец, вечно недовольный своей участью вольнодумец, читал сыну комедии Людвига Хольберга и сказки «Тысячи и одной ночи», мастерил ему кукольный театр и будил в нем то, что позже станет и его даром, и его проклятием — неутолимую жажду иной, лучшей жизни. Мать же, напротив, таскала его к гадалкам, свято веря, что ее нескладному, уродливому сыну предначертана великая судьба, и однажды он прославит их маленький Оденсе. Этот диссонанс между отцовским скепсисом и материнской верой, между миром книг и миром суеверий, стал первым из множества противоречий, из которых была соткана его душа. Семейная картина дополнялась родственниками, о которых в приличном обществе не говорят: тетка управляла борделем, а сводная сестра работала проституткой. Все это оседало в сознании впечатлительного мальчика, формируя его будущий панический страх перед физической стороной любви и женщинами.
В 1816 году, вскоре после возвращения с фронтов Наполеоновских войн, умирает Андерсен-старший. В его смерти не было ничего героического, он просто угас от болезни, оставив после себя долги, вдовую жену и одиннадцатилетнего сына, чем мир окончательно рухнул. Мать быстро вышла замуж вторично, и для Ганса Христиана места в новой семье, по сути, не нашлось. Он рос сам по себе — долговязый, нескладный юноша с огромным носом, маленькими бледными глазами и большими ступнями. Местные дети дразнили его, взрослые смотрели с жалостью или презрением. Единственным его убежищем стал собственноручно созданный кукольный театр, где он сам кроил костюмы для кукол и писал пьесы. Вдохновляясь Шекспиром, он грезил о театральной сцене, о громком успехе и о сияющем блеске Копенгагена. Эта мечта не была просто фантазией, а продуманным маршрутом к побегу от реальности. В четырнадцать лет, скопив жалкие тринадцать риксдалеров, он объявил матери, что едет в столицу «становиться знаменитым». На все ее уговоры выучиться на портного он отвечал с отчаянной решимостью — его будущее там, в большом городе! Перед отъездом он демонстративно упал на колени и взмолился, чтобы Бог помог ему. Этот драматический эпизод стал первой акцией в его собственной жизни, превратившейся в театральную постановку. Четвертого сентября 1819 года он сел в почтовую карету и покинул Оденсе, имея при себе лишь узелок с одеждой, рекомендательное письмо к одной балерине, которого он добился с неимоверным трудом, и наивную веру в свой гений.
Копенгаген встретил его безразличием и ледяным равнодушием. Он был никем — провинциальным оборванцем с нелепой внешностью и смешными манерами. Балерина, к которой он явился, приняла его за сумасшедшего. Он пошел в Королевский театр, где попытался устроиться актером, но его сочли слишком уродливым. Он попробовал петь, но его ломающийся голос вызвал лишь смех. Он попытался стать танцором в балетной труппе, но его неуклюжесть была очевидна всем. Каждая дверь закрывалась перед его большим носом. Он голодал, ночевал в самых дешевых комнатах и писал трагедии, которые никто не хотел читать. Казалось, столица вот-вот его перемелет и выплюнет. Но в этом странном, отчаянном юноше было нечто, что заставляло людей останавливаться. Его необразованность была вопиющей, но его талант, дикий и необузданный, пробивался наружу. На него обратили внимание несколько влиятельных господ, в том числе и директор театра Йонас Коллин. Это был человек дела, государственный чиновник, далекий от сентиментальности. Он не столько пожалел Андерсена, сколько разглядел в нем потенциал, диковинку, которую можно было бы огранить. Коллин и его друзья собрали деньги и добились для юноши королевской стипендии на обучение. Так, в семнадцать лет, Андерсен оказался за школьной партой в городишке Слагельсе, среди мальчишек, которые были на пять-шесть лет его младше.
Период обучения, который должен был стать спасением, превратился в то, что он позже назовет «самым темным и горьким временем» своей жизни. Ректором гимназии был некто Симон Мейслинг, филолог-классик и педагог-тиран. Он с самого начала невзлюбил своего великовозрастного ученика. Мейслинг видел в Андерсене выскочку, считал его творческие порывы ребячеством и поставил себе целью «воспитать его характер», а по сути — сломать его. Он издевался над его внешностью, высмеивал его стихи, запрещал ему читать что-либо, кроме учебников, и подвергал его унизительной публичной критике. «Вы — глупый юноша, который никогда ничего не достигнет», — твердил он ему. Андерсен, который панически боялся потерять расположение своих покровителей, терпел все. Он был старше своих одноклассников, которые тоже не упускали случая поиздеваться над «аистом». Он жил в доме самого Мейслинга, где чувствовал себя пленником. Это была систематическая психологическая пытка, которая довела его до глубочайшей депрессии и мыслей о самоубийстве. Он писал отчаянные письма Йонасу Коллину, умоляя забрать его, но тот отвечал сухо, призывая к терпению и усердию. Покровители заплатили за его образование и ждали результата, а не жалоб. Этот опыт навсегда выжег в его душе клеймо аутсайдера. Он больше не был частью ремесленного сословия, из которого вышел, но и буржуазное общество, в которое он так стремился, не принимало его за своего. Он был для них диковинным проектом, протеже, но не ровней. Пять лет унижений в школе научили его скрывать свои истинные чувства за маской покорности и благодарности, но внутри него кипела обида. Он получил аттестат, сдал экзамены в университет, но вышел из этой борьбы не победителем, а человеком с глубокой душевной травмой. Он научился выживать, но разучился доверять. Этот период не просто закалил его, он определил всю его дальнейшую жизнь и стал тем мутным, болезненным источником, из которого он будет черпать сюжеты для своих самых пронзительных сказок. Он сбежал из сапожной мастерской, но на всю жизнь остался тем самым «гадким утенком», который отчаянно ищет свою лебединую стаю, панически боясь, что его снова заклюют на птичьем дворе.
Сердечные дела и прочие катастрофы
Выбравшись из школьного ада, Андерсен с головой окунулся в столичную жизнь, но его главная проблема никуда не делась. Он был ходячим сгустком неудовлетворенных амбиций и желаний, и это касалось не только карьеры. Его личная жизнь была таким же полем боя, где он умудрялся проигрывать все сражения, зачастую даже не начав их. Вопрос о сексуальности Андерсена до сих пор заставляет биографов ломать копья. Одни, вроде Джеки Вульшлагер, уверенно заявляют, что он был бисексуален и имел физические связи с мужчинами. Другие, особенно датские исследователи, с пеной у рта доказывают, что нет никаких прямых доказательств его гомосексуальности, и вообще сомневаются, прикасался ли он хоть раз в жизни к женщине. Они предпочитают туманные формулировки вроде «духовной андрогинности». Но, скорее всего, и те, и другие ошибаются, пытаясь натянуть современные лекала на человека, для которого вся сфера романтических и физических отношений была терра инкогнита. Судя по его паническому ужасу перед телесностью, он не был геем в современном понимании этого слова, подразумевающем физическое влечение. Романтический мир был для него настолько сложной и пугающей сферой, что он просто не знал, как в нем существовать. Поэтому он фантазировал. Его «любовь» была не столько влечением к конкретному человеку, сколько отчаянной потребностью в самой драме любви. Его современник, философ Сёрен Кьеркегор, который Андерсена, мягко говоря, недолюбливал, язвительно заметил, что тот «подобен тем цветам, у которых мужское и женское сидят на одном стебле». И в этом есть доля истины. Его дневники и письма рисуют вполне однозначную картину: это был человек, раздираемый мощнейшим либидо, которое он панически боялся и отчаянно пытался сублимировать в творчество. Вся его романтическая стратегия сводилась к одному и тому же сценарию: он выбирал заведомо недоступный объект, будь то женщина или мужчина, и начинал его страстно и мучительно любить на расстоянии. Это позволяло ему испытывать весь спектр эмоций — от экстаза до отчаяния, — который был так необходим ему как писателю, и при этом избегать реальной физической близости, которая приводила его в ужас.
Первой такой «жертвой» стала Риборг Фойгт, сестра его университетского приятеля. Он встретил ее в 1830 году и влюбился моментально и безнадежно. Разумеется, девушка уже была помолвлена. Для Андерсена это был идеальный расклад. Он мог страдать, писать ей патетические стихи и жаловаться на судьбу в своем дневнике: «Всемогущий Боже, у меня есть только ты, моя судьба в твоих руках... Пошли мне невесту! Моя кровь жаждет любви, как и мое сердце». Он сделал ей предложение, получил вежливый отказ и превратил эту историю в свою личную трагедию на долгие годы. Когда он умер сорок пять лет спустя, на его шее нашли маленький кожаный мешочек, а в нем — длинное прощальное письмо от Риборг. Он пронес эту «реликвию» через всю жизнь, как доказательство своей способности к «великой любви». Позже была знаменитая шведская оперная дива Енни Линд, «шведский соловей». Он был одержим ею, посвятил ей сказку «Соловей», где противопоставил ее живой, искренний талант бездушной механической птичке. Он следовал за ней по всей Европе, но она видела в нем лишь «брата», что приводило его в ярость. Он был ей не нужен как мужчина, он был нужен ей как ручной гений, еще один трофей в ее коллекции.
Но самые сильные и откровенные чувства он испытывал к мужчинам. Эти отношения были для него безопаснее — в XIX веке пылкая мужская дружба не предполагала того, чего он так боялся. Главной любовью всей его жизни был Эдвард Коллин, сын его покровителя Йонаса Коллина. Эдвард был его полной противоположностью: сдержанный, прагматичный, твердо стоящий на ногах представитель истеблишмента. Андерсен буквально заваливал его письмами, полными таких признаний, которые не оставляли сомнений в природе его чувств. «Я тоскую по тебе, как по прекрасной калабрийской девушке... мои чувства к тебе — это чувства женщины. Женственность моей натуры и наша дружба должны оставаться тайной», — писал он. Коллин, который не разделял этих восторгов, был в ужасе. Он вежливо, но твердо держал дистанцию, отказывался переходить на «ты» и позже в своих мемуарах сухо констатировал: «Я оказался не в состоянии ответить на эту любовь, и это причинило автору много страданий». Этот сокрушительный отказ стал прямым источником вдохновения для «Русалочки», написанной в 1837 году, как раз когда Эдвард объявил о своей помолвке. Вся боль отвергнутого существа, которое готово пожертвовать своим голосом и своей природой ради любви к человеку из другого мира, который никогда ее не примет, — это боль самого Андерсена.
Самые близкие к физическим отношения случились у него в начале 1860-х с молодым танцором королевского балета Харальдом Шарффом. Этот период Андерсен сам назвал в дневнике своим «эротическим временем». Его записи полны страсти: «обменялся с ним всеми маленькими тайнами сердца; я тоскую по нему ежедневно». Он с восторгом фиксировал каждую встречу, каждый знак внимания: «Шарфф подскочил ко мне, обнял за шею и поцеловал!». Их роман протекал настолько открыто, что вызывал пересуды в обществе. Но, как и все увлечения Андерсена, это тоже было обречено. Страсть угасла, и 13 ноября 1863 года он с характерной для него меланхолией записал в дневнике: «Шарфф не заходил ко мне восемь дней; с ним все кончено». Были и другие: молодой наследный великий герцог Карл Александр, которому он писал, что любит его, «как мужчина может любить только самое благородное и лучшее», и которого благодарил за то, что тот однажды накинул на него свою накидку, согревшую «не только тело, но и сердце». Каждая такая история была для него поводом для душевных терзаний, ревности, отчаяния и, конечно, для творчества. Он был вечным Пьеро, влюбленным в недостижимых Коломбин и холодных принцев, и эта роль его полностью устраивала. Реальные, земные отношения с их бытом, ответственностью и физиологией были для него не просто неинтересны — они были смертельно опасны для его хрупкого внутреннего мира и для его искусства, которое питалось исключительно соком несбывшихся надежд.
Дневник страхов и тайных пороков
Чтобы хоть как-то совладать с кипящим котлом своих неврозов, Андерсен вел дневник. Но это был не сентиментальный журнал юной девицы, а скорее, бухгалтерская книга ипохондрика и отчет о борьбе с собственным телом. Дневник был для него жизненно важным механизмом саморегуляции, способом вынести наружу весь тот хаос, что творился у него в голове, каталогизировать его и тем самым попытаться обрести над ним хоть какой-то контроль. Он с дотошностью аптекаря фиксировал все: от погоды и съеденного на обед до состояния своего пищеварения, зубной боли и, что самое интересное, своих сексуальных порывов.
Его дневники — это откровенный, почти медицинский документ о борьбе с собственным либидо, которое он воспринимал через призму лютеранской морали как нечто греховное и грязное. Запись от 1834 года отлично иллюстрирует этот внутренний разлад: «Моя кровь кипит. Огромная чувственность и борьба с самим собой. Если это действительно грех — удовлетворять это мощное влечение, тогда дай мне сил бороться. Я все еще невинен, но моя кровь горит». Чтобы как-то упорядочить эту борьбу, он придумал специальный шифр, отмечая в дневнике случаи мастурбации крестиком (+) или двойным крестом (++). После визита приятных гостей он мог запросто приписать: «Когда они ушли, у меня было двойное чувственное ++». Эта привычка была для него источником не только душевных мук, но и вполне физических страданий. Страницы дневника пестрят жалобами на то, что у него «болит пенис» или «пенис нездоров». Вдобавок ко всему, его терзал популярный в XIX веке страх, что онанизм ведет к безумию и слепоте, что идеально ложилось на его и без того плодородную почву ипохондрии.
Этот же панический страх перед физиологией породил одну из самых странных привычек Андерсена — его визиты в бордели, которые он в дневнике стыдливо называл «человеческими лавками». Но и здесь все было не как у людей. Он платил проституткам, но не за секс. Ему было достаточно просто поговорить с ними или посмотреть, как они раздеваются. После чего он отправлялся домой, делал в дневнике соответствующую пометку и мучился чувством вины. Одна из таких записей идеально передает суть его натуры: он покинул заведение, «не согрешив делом, но, безусловно, согрешив в мыслях». Он как будто сознательно искал материал, который будоражил бы его воображение, но отшатывался в ужасе от реального физического контакта. Его целомудрие было не результатом аскезы, а следствием глубинного страха.
Но борьбой с либидо список его терзаний не исчерпывался. Андерсен был ходячей энциклопедией фобий. Он до смерти боялся быть похороненным заживо и поэтому часто, ложась спать, оставлял на прикроватном столике записку: «Я только кажусь мертвым». Он панически боялся собак, пожаров (и потому всегда возил с собой в багаже длинную веревку, чтобы сбежать из окна горящего отеля), ограбления и того, что его отравят. Эта тотальная тревожность делала его совершенно невыносимым в быту и обществе.
Его социальная неловкость была легендарной и часто приводила к катастрофическим последствиям. Самый хрестоматийный и трагикомичный пример — его отношения со своим литературным кумиром, Чарльзом Диккенсом. Андерсен боготворил его, и после первой встречи в 1847 году буквально заваливал письмами. Десять лет спустя, в 1857 году, он напросился в гости в его загородное поместье Gads Hill Place. Диккенс, соблюдая приличия, выслал приглашение, ожидая стандартного короткого визита. Андерсен приехал на пять недель. Он ввалился в дом в самый неподходящий момент: брак Диккенса разваливался на куски, атмосфера была наэлектризована до предела из-за его мучительного разрыва с женой Кэтрин. Любой нормальный человек почувствовал бы это напряжение и постарался бы исчезнуть. Но не Андерсен. Он был абсолютно глух к чужим драмам, поглощенный исключительно собой. Он вел себя как гигантский, эгоцентричный ребенок. Когда из Дании пришла газета с плохой рецензией на его произведение, он, не найдя ничего лучше, вышел на идеально подстриженный английский газон, рухнул на него ничком и зарыдал в голос, к ужасу всей семьи Диккенса. Он был совершенно беспомощен в быту и отпускал странные просьбы — например, просил, чтобы один из сыновей Диккенса каждое утро его брил. Дети писателя быстро прозвали его «костлявым старым занудой». Когда гость наконец отбыл, Диккенс, чтобы выпустить пар, приколол в гостевой спальне записку, ставшую историческим анекдотом: «Ганс Христиан Андерсен ночевал в этой комнате пять недель, которые показались семье ВЕЧНОСТЬЮ!». После этого он прекратил всякое общение. Андерсен до конца жизни искренне недоумевал, почему его великий друг внезапно охладел. Эта тотальная неспособность считывать социальные сигналы и крайняя эмоциональная лабильность заставляют некоторых современных исследователей предполагать, что у него могла быть одна из форм аутистического расстройства. Но как бы то ни было, именно эта странность, эта инаковость и делала его тем, кем он был. Его дневник был не просто хроникой событий. Это был клапан для сброса пара, место, куда он мог вывалить все свои страхи, унижения и тайные желания, которые он никогда не посмел бы показать своим высокопоставленным покровителям. Это была тайная, грязная котельная, которая давала энергию для работы его сияющей сказочной фабрики.
Искусство страдать на бумаге
Андерсен, при всей своей социальной неловкости, был достаточно хитер, чтобы понимать, в чем его сила. Он нашел гениальный способ не просто справляться со своими страданиями, а монетизировать их. Его сказки — это не плод беззаботной фантазии, а прямое, почти неприкрытое переложение его собственных травм, унижений и несбывшихся желаний на бумагу. Он этого особо и не скрывал. «Большинство из того, что я написал, — это отражение меня самого, — заявлял он. — Каждый персонаж взят из жизни. Я знаю и знал их всех». Когда критик Георг Брандес как-то заметил ему, что лучшей автобиографией Андерсена является «Гадкий утенок», тот с готовностью согласился: «Да, эта история, конечно, является отражением моей собственной жизни». Его творчество было не бегством от реальности, а ее дистилляцией, превращением личной боли во всеобщий символ.
Нигде это не проявилось так очевидно, как в «Гадком утенке», написанном в 1843 году. Эта сказка — прозрачная до неприличия аллегория его собственного пути из грязи в князи. Главный герой — уродец, которого клюют и шпыняют все обитатели птичьего двора только за то, что он не такой, как все: слишком большой, нескладный и серый. Это точное описание самого Андерсена в детстве и юности — долговязого, нелепого парня с огромным носом, над которым потешался весь Оденсе. Птичий двор — это и есть его родной город, а затем и Копенгаген, который встретил его с таким же презрением. Мучительная, одинокая зима, во время которой утенок едва не замерзает в болоте, — это прямая метафора его «самых темных и горьких» лет в школе Слагельсе под началом тирана Мейслинга, где он был на грани полного отчаяния. А триумфальный финал, когда измученное существо видит в воде свое отражение и понимает, что оно не утка, а прекрасный лебедь, «королевская птица», — это мечта любого аутсайдера, ставшая для Андерсена реальностью. Его, выходца из низов, наконец-то приняли в высшем свете. Короли и герцоги теперь пожимали ему руку, аристократические салоны наперебой звали его в гости. Он стал своим среди тех, кто еще недавно счел бы за унижение сидеть с ним за одним столом.
Если «Гадкий утенок» — это история его социального восхождения, то «Русалочка», написанная шестью годами ранее, в 1837-м, — это памятник его эмоциональной катастрофе, реквием по его безнадежной любви к Эдварду Коллину. Сказка была написана именно в тот год, когда Коллин объявил о своей помолвке, и она буквально пропитана личной болью автора. Русалочка — это сам Андерсен. Она — существо из другого мира, которое отчаянно стремится попасть в мир людей, в мир своего возлюбленного принца. Это точное отражение желания самого Андерсена хоть как-то вписаться в мир земной, физической любви, который был для него так же чужд и недоступен, как суша для русалки. Чтобы получить ноги, она заключает сделку с морской ведьмой и жертвует самым ценным, что у нее есть, — своим голосом. Это гениальная метафора того, как сам Андерсен был вынужден скрывать свою истинную сущность, свою ранимую натуру, чтобы быть принятым в обществе. И какой ценой ей дается эта трансформация! Каждый шаг по земле причиняет ей невыносимую боль, «будто она ступает по острым ножам». Это боль самого Андерсена, который пытался быть не тем, кем он был на самом деле, и каждое мгновение в высшем свете, среди «нормальных» людей, было для него такой же пыткой. Но принц, конечно, не замечает ее страданий. Он любит ее как милого, забавного ребенка, но не как женщину. Он женится на земной принцессе, потому что она «своя», она из его мира. Это прямой удар в сердце Андерсена, чей возлюбленный Эдвард Коллин тоже выбрал «земную принцессу», свою невесту. Финал сказки — квинтэссенция мироощущения Андерсена. Русалочка не получает принца. Она проигрывает. Но вместо того, чтобы умереть, она превращается в дитя воздуха, получая шанс обрести бессмертную душу через добрые дела. Это типичный для Андерсена утешительный приз. Он не верил в счастье на земле, особенно в любви. Для его героев, как и для него самого, наградой за страдания часто становилась не любовь, а некая форма духовной трансценденции, утешение на том свете.
И так было почти со всеми его сказками. «Стойкий оловянный солдатик» — это еще один его автопортрет. Одноногий калека (намек на собственную инаковость), который молча и безнадежно влюблен в прекрасную бумажную танцовщицу, но не может даже подойти к ней. Он стоически переносит все невзгоды — падение из окна, плавание в бумажном кораблике, заточение в брюхе рыбы, — и все это ради любви, которая изначально обречена. Его судьба — сгореть в огне рядом со своей возлюбленной, так и не сказав ей ни слова. Это история о молчаливом, упорном страдании, которое Андерсен считал высшей доблестью. А «Снежная королева»? Это не просто сказка о борьбе добра и зла. Это история о ледяном поцелуе, который замораживает сердце и заставляет видеть мир искаженным, лишенным красоты. Осколок кривого зеркала, попавший в глаз Каю, — это тот самый холодный, рациональный взгляд на мир, которого так боялся сам Андерсен. А маленькая разбойница, которая сначала ведет себя жестоко, но потом отпускает Герду и ее оленя, — это еще один сложный, неоднозначный персонаж, в котором добро и зло перемешаны, как и в душе любого человека.
Или взять одну из самых мрачных его вещей — «Тень». Это уже не сказка, а настоящий психологический триллер. Ученый, человек знания, теряет свою тень. Через некоторое время тень возвращается, но уже как самостоятельная, богатая и влиятельная личность. Она полностью подчиняет себе своего бывшего хозяина, заставляет его притворяться своей тенью и в конце концов добивается его казни. Это кристаллизованный страх Андерсена. Страх, что его публичный образ, его слава («тень») поглотит его настоящего, неуверенного в себе «я». Это страх выскочки, который боится, что появится кто-то более хитрый и безжалостный и отнимет у него все. Андерсен не писал простых историй для детей. Он брал свои взрослые, сложные неврозы, свои страхи, свою боль отверженности и заворачивал их в блестящую обертку волшебства. И может быть, именно поэтому его сказки так бессмертны. Потому что под слоем волшебства в них всегда бьется живое, страдающее, очень человеческое сердце.
Король-попрошайка и его вечность
К середине своей жизни Андерсен получил все, о чем только мог мечтать тот оборванный мальчишка, что сбежал из Оденсе. Он стал знаменит. Не просто знаменит, а всемирно известен. Его сказки переводили на десятки языков, его принимали короли и императоры, дети по всей Европе засыпали под его истории. В Дании его объявили «национальным достоянием», а в родном Оденсе, как и предсказывала гадалка его матери, в его честь устраивали иллюминации. Казалось бы, вот он, хэппи-энд. Гадкий утенок не просто стал лебедем, он стал главным лебедем всего европейского пруда. Но в этом и заключалась главная ирония его жизни: получив все, он не получил ничего. Слава не излечила его от комплексов, деньги не избавили от страхов, а всеобщее обожание не спасло от тотального одиночества.
Он до конца своих дней оставался тем же неуверенным в себе, мнительным ипохондриком. Чем больше его хвалили, тем больше он боялся, что его разоблачат. Он панически боялся критики и мог впасть в депрессию от одной-единственной негативной рецензии в какой-нибудь провинциальной газете, игнорируя при этом хвалебные оды от лучших критиков Европы. Он так и не научился владеть собственностью. У него никогда не было своего дома. Всю жизнь он прожил либо в меблированных комнатах, либо в гостях у своих богатых покровителей, как вечный приживала. Он был самым знаменитым попрошайкой Дании, который постоянно нуждался не столько в деньгах (к концу жизни он был весьма состоятельным человеком), сколько в заботе, опеке и подтверждении собственной значимости. Он мог запросто заявиться на обед к своим друзьям, банкиру Морицу Мельхиору и его жене Доротее, и остаться жить у них на несколько месяцев, превратившись в капризного и требовательного члена семьи. Они стали для него тем, чего у него никогда не было, — настоящей семьей, которая терпела все его выходки.
Его путешествия, которых за жизнь было около тридцати, были не столько тягой к познанию мира, сколько бегством от самого себя. Но куда бы он ни ехал — в Италию, Англию или Турцию, — он везде возил с собой свой главный багаж: свои страхи. Он по-прежнему боялся пожаров, собак, грабителей и зубной боли. Зубная боль была его отдельным кошмаром. Он верил, что количество зубов напрямую связано с его творческой потенцией, и потеря каждого зуба была для него трагедией, предвещавшей скорый конец его таланта. Он так и не завел близких друзей, которые были бы ему ровней. Его окружали либо высокопоставленные покровители, перед которыми он лебезил, либо поклонники, в чьем обожании он купался. Он был мастером самопиара, тщательно конструировал свой публичный образ «доброго сказочника», написав целых три версии автобиографии под названием «Сказка моей жизни». В них он представал эдаким праведником, которого судьба вела за руку из нищеты к славе. О своих реальных терзаниях, страхах и тайных желаниях, которые он доверял только дневнику, там не было ни слова.
К старости его ипохондрия достигла апогея. Он постоянно прислушивался к своему телу, ожидая найти симптомы смертельной болезни. Весной 1872 года он упал с кровати и сильно расшибся. От этой травмы он так и не оправился. Последние три года своей жизни он медленно угасал, мучаясь от болей, которые, скорее всего, были вызваны раком печени. Он провел это время в доме своих друзей Мельхиоров, окруженный их заботой. Они ухаживали за ним как за ребенком, читали ему вслух, записывали под диктовку его последние мысли. Он до последнего дня продолжал работать, но больше всего его заботило то, как он будет умирать и как его будут хоронить. Он панически боялся, что его похоронят заживо, и умолял, чтобы после смерти ему на всякий случай перерезали артерию. Он умер тихо, во сне, 4 августа 1875 года.
Парадокс его наследия заключается в том, что этот глубоко несчастный, эгоцентричный, закомплексованный и одинокий человек создал одни из самых светлых, мудрых и человечных произведений в мировой литературе. Человек, который панически боялся реальной жизни, оказался гениальным знатоком человеческой души. Он, который так и не смог построить нормальных отношений ни с одним человеком, сумел установить незримую связь с миллионами читателей по всему миру. Вся его жизнь была отчаянной погоней за любовью и признанием, которых ему так не хватало. Он искал их у женщин, у мужчин, у королей и у толпы. Но нашел только на страницах собственных книг. В конечном счете, именно там, в выдуманном им мире, где оловянные солдатики умеют любить, а гадкие утята превращаются в лебедей, он и обрел свой настоящий дом и свою бессмертную душу. Одинокий сказочник, человек в футляре, через свои истории навсегда поселился в коллективном воображении всего человечества. И это, пожалуй, самая главная и самая удивительная сказка, которую он когда-либо написал.
***********************
Подпишись на мой канал в Телеграм - там все выходит раньше и доступны тексты, которые я не могу выложить на Пикабу из-за ограничений объема.