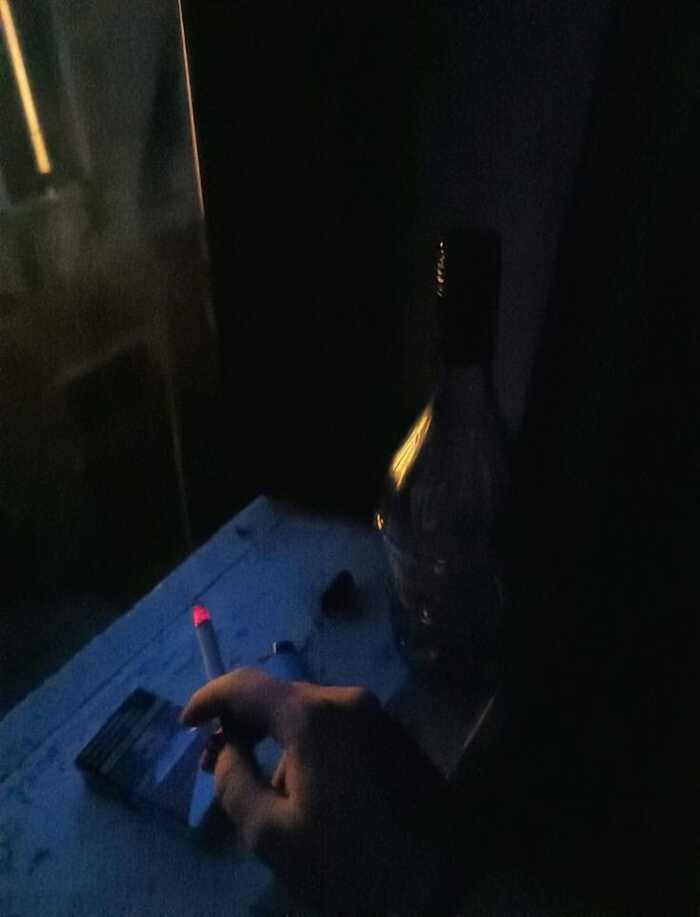Волшебство отменяется. Финал
СПИД, чуму XX века, сменила улыбка, чума века XXI. Улыбка в наши дни может означать что угодно, от желания кинуть вас на пару миллионов, заманить на тупые курсы, или впарить диван из гнилой фанеры, который развалится на следующий день после окончания гарантии, до просчитанного плана заявиться в школу с карабином, или мечты дотянуть до вечера, залезть в ванну с горячей водой и вскрыть вены. Завидев искреннюю улыбку, будьте осмотрительны. В этом сезоне их носят поистине страшные люди, способные на все. Те, кому нечего скрывать, не улыбаются во все 32, для улыбки нужен серьезный повод. Я знаю, я сама из этих, улыбающихся.
26.12. Обычное утро. Долго сплю, чищу зубы, не глядя в зеркало, собираю волосы в хвост. Погода как ранней весной. Тепло, сыро, ветренно, мрачно. Хотелось бы солнца, взглянуть в последний раз в бескрайнюю веселую синь, сощуриться, улыбнуться рассеяно, своей настоящей улыбкой. Но нет, так нет, я сажусь в машину и выезжаю на Дмитровку. Под зеркалом покачивается фигурка Деда Мороза. Подмигиваю: не подведи, старче.
За это время подъезд перекрашивали раз двадцать. В пору юности он был нежно-лимонный, вплоть до восьмого этажа расписанный веселой пошлятиной, грязной бранью и музыкальными манифестами. Теперь на стенах не пишут, но судя по душку, как ссали, так и продолжают ссать. И цвет стен неизменно противный. Сейчас отвратно зелёный, в прошлом году грязно-синий. Кто утверждает такие цвета? В них же просто невозможно существовать.
Поднимаюсь пешком. Не чтобы оттянуть время, дать себе фору, я все давно решила, хочется ещё раз пройти по битым ступеням, услышать голоса, отражавшиеся от стен, провести рукой по ободранному дереву перил, собрав следы собственных рук пятнадцати-двадцати-тридцатилетней давности. Не глядя, на ощупь, я читаю выцарапанные пацанами надписи: наши имена на третьем этаже, это Круглый в шестом классе резал, когда мы братались на крови, здесь "Катя", обрамленное сердечком, не знаю чье творчество, между седьмым и восьмым "К — сучара", а выше "друзья навек", "Михлик дебил", "Рэп кал".
Расстегиваю куртку, достаю ключ. Запираю за собой и заправляю цепочку на место, под свитер, туда, где болезненно пульсирует точка на палец выше солнечного сплетения, туда, где за двадцать семь лет образовалась ложбинка, и ключ привычно ложится на свое место.
Смотрю на часы. Потом на небо. Жаль что здесь нет птиц. Хотя, какие здесь могут быть птицы, птеродактили если только. Подхожу к самому краю. Как там у Гоголя: "Вот, погодите. Обрежем мы вам чубы!" Сжимаю в кармане пачку, талисман, оберег и единственный якорь, но так и не закуриваю. Начинаю медленно спускаться вниз.
Я как раз вовремя. В клубах испарений показываются пять фигурок. Скидываю куртку и бегу навстречу. Нет больше никакой тяжести в ногах, как при первых посещениях долины, нет щемящей боли в груди, и никаких двадцати семи лет нет. Парни, мать вашу, где вы были? Разве можно так пугать? Я уснула и мне снился долгий-долгий мерзкий сон. Будто тебя, Серёг, засосало в кишку, Узбек разбился, Колька вообще пропал, а я выбирала одежду для похорон Михлика... Ванька, Ванечка! Да что вы ржёте, придурки? Да не плачу я! Хорош ржать, говорю. Узбек, тебе зубы жмут?
И все заканчивается хорошо. Мы выбираемся наверх и идём жарить картошку с салом. Круглый бежит домой за банкой огурцов, никто не маринует огурцы лучше его бабули. Жизнь продолжается, скоро мы вырастем и кем-нибудь станем, лишь изредка вспоминая морок. Понемногу я забуду о том вязком сне, в котором мне было 46, и я курила, сидя на крыше. Я буду плакать, смеяться и делать все, что делают обычные люди, я обязательно научусь быть обычной. И я никогда не узнаю, что...
...что волшебство, действительно отменяется. И никакой Новый Год не наступит. Никогда.
Вместо этого щупальца-вены дотянуться, наконец, до нашего мира, пронзят реальность, порвав ее как старую газету, сетью оплетут дома моего милого города. Из раскрывшихся лепестками лон хлынут уродливые безмолвные тени. Люди, прочитавшие тонны книг про апокалипсис, посмотревшие тысячи фильмов, получившие сотни пророчеств и знаков, но так и не поверившие в истину происходящего, проснутся в новом мире и окажутся не готовы. Никакой битвы за землю, никакого противостояния не случится. Уродцы, выношенные изнанкой, будут хватать несчастных как скот, волочь к дымящимся щелям в асфальте и сбрасывать на переработку в бурлящую, жаждущую утробу. Спазматически подрагивающие багровые влажные дыры начнут выплевавать новых и новых, наспех сделанных существ, пока те не заполонят собой мир. И каждый из них будет иметь обезображенное рыло моего друга Леща.
Подполья, где могла бы вызреть революция, оплот человечества, не будет. И негде будет укрыться от рыскающих чудовищ, адские корни рассекут улицы и прорастут сквозь каждую стену. Это станет началом нового мира, Кровавым Рождеством.
Почва, высосанная до капли, выродится в бесплодную пустошь, а обвивающие ее трубки, подрагивая от процессов пищеварения, неторопливо переваривая трупы, с низким размеренным гулом мало по малу изменят законы вселенной, превратив нашу планету в один из перевалочных пунктов победного шествия Паразита.
Конец